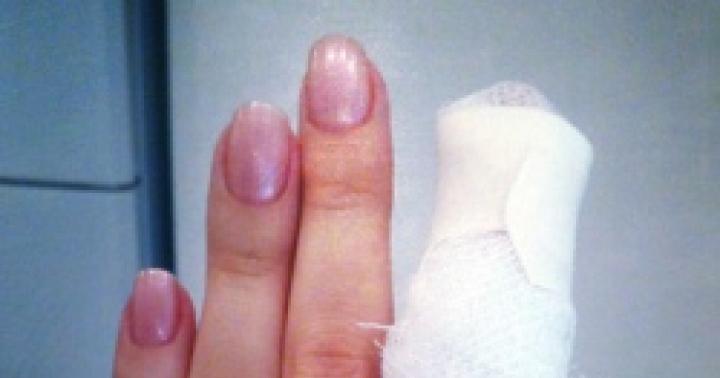За пятиугольным замком Монсегюр народные предания закрепили название — «Проклятое место на святой горе». Сам замок находится на возвышенности, находящейся на юго-западе Франции. Построен он был на месте святилища, существовавшего в дохристианские времена. Сама возвышенность была небольшой, но имела крутые склоны, поэтому замок считался неприступным (на древнем диалекте название Монсегюр звучит как Монсюр — Надежная гора).
С этим краем связаны легенды и сказания о рыцаре Парсифале, о Святом Граале и, конечно, о волшебном замке Монсегюр. Окрестности Монсегюра поражают своей загадочностью и мистичностью. С Монсегюром связаны и трагические исторические события.
В 1944 году в ходе упорных и кровопролитных боев союзники занимали отбитые у немцев позиции. Особенно много французских и английских солдат полегло на стратегически важной высоте Монте-Кассино, пытаясь завладеть замком Мосегюр, где засели остатки 10-й немецкой армии. Осада замка продолжалась 4 месяца. Наконец после массированных бомбардировок и высадки десанта союзники пошли на решающий штурм.
Замок был разрушен практически до основания. Однако немцы продолжали оказывать сопротивление, хотя участь их уже была решена. Когда солдаты союзников вплотную приблизились к стенам Монсегюра, произошло что-то необъяснимое. На одной из башен взвился большой флаг с древним языческим символом — кельтским крестом.
К этому древнегерманскому ритуалу обычно прибегали лишь тогда, когда нужна была помощь высших сил. Но все было тщетно, и захватчикам уже ничто не могло помочь.
Этот случай был далеко не единственным в долгой и полной мистических загадок истории замка. А началась она еще в VI веке, когда на горе Кассино, считавшейся священным местом еще с дохристианских времен, святым Бенедиктом в 1529 году был основан монастырь. Кассино была не очень высокой и скорее походила на сопку, но склоны ее отличались крутизной — именно на таких горах в старину и закладывались неприступные замки. Недаром на классическом французском диалекте Монсегюр звучит как Мон-сюр — Надежная гора.
850 лет тому назад в замке Монсегюр разыгрался один из самых драматических эпизодов европейской истории. Инквизиция Святейшего престола и армия французского короля Людовика IX почти год вели осаду замка. Но им так и не удалось справиться с двумястами еретиками-катарами, засевшими в нем. Защитники замка могли покаяться и уйти с миром, но вместо этого предпочли добровольно взойти на костер, тем самым они сохранили в чистоте свою загадочную веру.
И до наших дней нет однозначного ответа на вопрос: откуда в Южную Францию проникла катарская ересь? Первые ее следы появились в этих краях в XI веке. В те времена южная часть страны, входившая в Лангедокское графство, простиравшееся от Аквитании до Прованса и от Пиренеев до Креси, была практически независимой.
Правил этой обширной территорией Раймонд VI, граф Тулузский. Номинально он считался вассалом французского и арагонского королей, а также императора Священной Римской империи, но по знатности, богатству и силе не уступал ни одному из своих сюзеренов.
В то время как на севере Франции господствовало католичество, во владениях графов Тулузских все шире распространялась опасная катарская ересь. По мнению некоторых историков, она проникла туда из Италии, которая, в свою очередь, позаимствовала это религиозное учение от болгарских богомилов, а те — от манихеев Малой Азии и Сирии. Число тех, кого потом называли катарами (по-гречески — «чистыми»), множилось как грибы после дождя.
«Нет одного бога, есть два, которые оспаривают господство над миром. Это бог добра и бог зла. Бессмертный дух человечества устремлен к богу добра, но бренная его оболочка тянется к темному богу» — так учили катары. При этом наш земной мир они считали царством Зла, а мир небесный, где обитают души людей, — пространством, в котором торжествует Добро. Поэтому катары легко расставались с жизнью, радуясь переходу своих душ во владения Добра и Света.
По пыльным дорогам Франции колесили странные люди в остроконечных колпаках халдейских звездочетов, в подпоясанных веревкой одеждах — катары повсюду проповедовали свое учение. Брали на себя столь почетную миссию так называемые «совершенные» — подвижники веры, давшие обет аскетизма. Они полностью порывали с прежней жизнью, отказывались от имущества, придерживались пищевых и ритуальных запретов. Зато им были открыты все тайны учения.
К другой группе катаров относились так называемые «профаны», то есть рядовые последователи. Они жили обычной жизнью, веселой и шумной, грешили, как все люди, но при этом благоговейно соблюдали те немногие заповеди, которым их научили «совершенные».
Новую веру особенно охотно принимали рыцари и знать. Большинство знатных семейств в Тулузе, Лангедоке, Гаскони, Русильоне стали ее приверженцами. Они не признавали католической церкви, считая ее порождением дьявола. Такое противостояние могло закончиться только кровопролитием...
Первое столкновение католиков с еретиками произошло 14 января 1208 года на берегу Роны, когда во время переправы один из оруженосцев Раймунда VI ударом копья смертельно ранил папского нунция. Умирая, священник прошептал своему убийце: «Пусть Господь простит тебя, как прощаю я». Но католическая церковь не простила ничего. К тому же на богатое Тулузское графство давно имели виды французские монархи: и Филипп II, и Людовик VIII мечтали присоединить богатейшие земли к своим владениям.
Граф Тулузский был объявлен еретиком и последователем сатаны. Католические епископы бросили клич: «Катары — гнусные еретики! Надо огнем выжечь их, да так, чтобы семени не осталось...» Для этого была создана святая инквизиция, которую папа подчинил ордену доминиканцев — этим «псам господним» (Dominicanus — domini canus — господни псы).
Так был объявлен крестовый поход, который впервые был направлен не столько против иноверцев, сколько против христианских земель. Интересно, что на вопрос солдата о том, как отличить катаров от добрых католиков, папский легат Арнольд да Сато ответил: «Убивайте всех: Бог узнает своих!»
Крестоносцы опустошили цветущий южный край. В одном только городе Безье, согнав жителей к церкви Святого Назария, они перебили 20 тысяч человек. Катаров вырезали целыми городами. Земли Раймунда VI Тулузского были у него отняты.
В 1243 году единственным оплотом катаров оставался только старинный Монсегюр — их святилище, превращенное в военную цитадель. Здесь собрались практически все уцелевшие «совершенные». Они не имели права носить оружие, так как в соответствии с их учением оно считалось прямым символом зла.
Тем не менее, этот маленький (в двести человек) невооруженный гарнизон почти 11 месяцев отбивал атаки 10-тысячного войска крестоносцев! О том, что происходило на крошечном пятачке на вершине горы, стало известно благодаря сохранившимся записям допросов уцелевших защитников замка. Они таят в себе удивительную историю мужества и стойкости катаров, которая до сих пор поражает воображение историков. Да и мистики в ней хватает.
Епископ Бертран Марти, организовывавший защиту замка, хорошо понимал, что его сдача неизбежна. Поэтому еще до Рождества 1243 года он отправил из крепости двух верных служителей, которые вынесли на себе некое сокровище катаров. Говорят, что оно до сих пор спрятано в одном из многочисленных гротов в графстве Фуа.
2 марта 1244 года, когда положение осажденных стало невыносимым, епископ начал вести переговоры с крестоносцами. Крепость сдавать он не собирался, но ему очень нужна была отсрочка. И он ее получил. За две недели передышки осажденным удается втащить на крохотную скальную площадку тяжелую катапульту. А за день до сдачи замка происходит почти невероятное событие.
Ночью четверо «совершенных» спускаются на веревке с горы высотой 1200 метров и уносят с собой некий сверток. Крестоносцы спешно снарядили погоню, но беглецы словно растворились в воздухе. Вскоре двое из них объявились в Кремоне. Они с гордостью рассказали об удачном исходе своей миссии, но что им удалось спасти, неизвестно до сих пор.
Только вряд ли обреченные на смерть катары — фанатики и мистики —стали бы рисковать жизнью ради золота и серебра. Да и какой груз могли унести на себе четверо отчаянных «совершенных»? Значит «сокровище» катаров было иного свойства.
Монсегюр всегда являлся для «совершенных» святым местом. Это они возвели на вершине горы пятиугольный замок, попросив у прежнего хозяина, своего единоверца Рамона де Пиреллы, разрешения перестроить крепость по своим чертежам. Здесь в глубокой тайне катары совершали свои обряды, хранили священные реликвии.
Стены и амбразуры Монсегюра были строго ориентированы по странам света подобно Стоунхенджу, поэтому «совершенные» могли вычислять дни солнцестояния. Архитектура замка производит странное впечатление. Внутри крепости возникает чувство, что вы находитесь на корабле: низкая квадратная башня на одном конце, длинные стены, выгораживающие узкое пространство посередине, и тупой нос, напоминающий форштевень каравеллы.
Остатки каких-то теперь уже непонятных сооружений громоздятся в одном из концов узкого двора. Теперь от них остались одни фундаменты. Они похожи то ли на основу каменных цистерн для сбора воды, то ли на входы в засыпанные подземелья.
Сколько книг написано о странной архитектуре замка, как только не пытались интерпретировать его сходство с кораблем! В нем видели и храм солнцепоклонников, и предтечу масонских лож. Впрочем, пока замок не выдал ни одного из своих секретов.
Прямо напротив главного входа во второй стене проделан такой же узкий и низкий проход. Он ведет на противоположную оконечность площадки, венчающей гору. Места здесь едва хватает для узкой тропинки, которая тянется вдоль стены и обрывается пропастью.
800 лет назад именно к этой тропинке и к крутым склонам горы около вершины лепились каменные и деревянные здания, в которых обитали защитники Монсегюра, избранные катары, члены их семей и крестьяне из лежавшей у подножия горы деревушки. Как они выживали здесь, на этом крошечном пятачке, под пронизывающим ветром, осыпаемые градом огромных камней, с тающими запасами еды и воды? Загадка. Теперь от этих хлипких построек не осталось никаких следов.
В августе 1964 года спелеологи на одной из стен обнаружили какие-то значки, насечки и чертеж. Он оказался планом подземного хода, идущего от подножия стены к ущелью. Затем был открыт и сам ход, в котором нашли скелеты с алебардами. Новая загадка: кем были эти люди, погибшие в подземелье? Под фундаментом стены исследователи обнаружили несколько интересных предметов с нанесенными на них катарскими символами.
На пряжках и пуговицах была изображена пчела. Для «совершенных» она символизировала тайну оплодотворения без физического контакта. Была также найдена странная свинцовая пластина длиной 40 сантиметров, сложенная пятиугольником, который считался отличительным знаком апостолов «совершенных». Катары не признавали латинский крест и обожествляли пятиугольник — символ рассеивания, распыления материи, человеческого тела (вот, видимо, откуда странная архитектура Монсегюра).
Анализируя ее, видный специалист по катарам Фернан Ньель подчеркивал, что именно в самом замке «был заложен ключ к обрядам — тайна, которую «совершенные» унесли с собой в могилу».
До сих пор есть немало энтузиастов, которые ищут в окрестностях и на самой горе Кассино зарытые клады, золото и драгоценности катаров. Но больше всего исследователей интересует та святыня, которую спасли от поругания четверо смельчаков. Некоторые предполагают, что «совершенные» владели знаменитым Граалем. Ведь недаром и сейчас в Пиренеях можно услышать такую легенду:
«Когда стены Монсегюра еще стояли, катары охраняли Священный Грааль. Но Монсегюр был в опасности. Рати Люцифера расположились под его стенами. Им нужен был Грааль, чтобы снова заключить его в корону их властелина, из которой он выпал, когда падший ангел был повержен с небес на землю. В момент наивысшей для Монсегюра опасности с неба явился голубь и своим клювом расщепил гору Табор. Хранительница Грааля бросила ценную реликвию в недра горы. Гора сомкнулась, и Грааль был спасен».
Для одних Грааль — это сосуд, в который Иосиф Аримафейский собрал кровь Христа, для других — блюдо Тайной вечери, для третьих — нечто вроде рога изобилия. А в легенде о Монсегюре он предстает в виде золотого изображения Ноева ковчега. По преданию, Грааль обладал магическими свойствами: мог излечивать людей от тяжелых недугов, открывать перед ними тайные знания. Священный Грааль могли видеть лишь чистые душой и сердцем, а на нечестивцев он обрушивал великие беды.
Сегодня от некогда неприступной цитадели почти ничего не осталось: только фрагменты полуразрушенных стен, выбеленные дождем нагромождения камней, кое-как расчищенные внутренние дворики с остатками лестниц и башен. Но это и придает ей особый колорит, также как и непростое восхождение к ней по узкой горной тропе. Впрочем, в замке открыт музей, где можно посмотреть на видеореконструкцию жилища и быта катаров.

Так кто же такие КАТАРЫ?
С движением катаров связан ряд легенд, отразившихся в произведениях европейского искусства и фольклора. Начиная с эпохи просвещения, и по сей день, катаризм оценивается большинством исследователей как самый серьезный противник римско-католической церкви до начала реформации, во многом повлиявшей на религиозные процессы 14-16 веков. Традиционная история утверждает, что новое христианское вероучение, сторонники которого назывались катары, возникло в западной Европе в десятом, одиннадцатом веках. Позиции катаров были особенно сильны в области Альби на юге Франции. Поэтому у них появилось еще одно название - альбигойцы. Историки полагают, что религия катаров была тесно связана с идеями болгарской сектой - богомилов.
Как сообщают энциклопедии, болгарский богомилизм одиннадцатого столетия и катаризм известный на западе с двенадцатого по четырнадцатое столетие это одна и та же религия. Считается что, придя с востока, катарская ересь развилась в Болгарии, и название болгары сохранялось, как имя, использовавшееся для описания ее первоначального происхождения. Религиозные историки и священники полагают, что и богомилизм и вероучения катаров содержали серьезные противоречия с догматами христианства. Например, их обвиняли в том, что они якобы отказались от признания таинств и от главного догмата христианства - триединого бога.
На этом основании католическая церковь объявила вероучения катаров ересью. А противодействие катаризму было долгое время главной политикой римских пап. Не смотря на многолетнюю борьбу католической церкви против катаров, среди их многочисленных сторонников было большое количество католиков. Их привлекал и повседневный и религиозный образ жизни катаров. Более того, многие верующие католики принадлежали к обеим церквям. И католической, и катарской. А в областях, где катаризм имел большое влияние, никогда не было религиозных столкновений. Историки утверждают, что противостояние между катарами и католиками достигло кульминации, якобы в начале тринадцатого века.
Специально для борьбы с еретиками, папа Иннокентий третий, учредил церковную инквизицию, а затем санкционировал крестовый поход против катарских областей. Руководство походом осуществлял папский легат Арно Амори. Однако местное население катарских областей поддерживало своих законных правителей и оказывало активное сопротивление крестоносцам. Это противостояние вылилось в двадцатилетнюю войну, полностью разорившую юг Франции. Впоследствии историки писали, что эти сражения были слишком многочисленны, чтобы можно было их перечислить. Особенно яростно катары оборонялись в Тулузе и Каркассоне О накале этих битв можно судить по одному источнику, дошедшему до нас из глубины веков.
Воины крестоносцы обратились к Арно Амори с вопросом, как отличить еретика от правоверного католика? На что аббат ответил «убивайте всех подряд, бог распознает своих» В этой войне катары и их сторонники из числа католических феодалов потерпели поражение. А последовавшие систематические репрессии, завершились полным разгромом катарического движения. В конце концов, катары сошли с исторической сцены средних веков, а из величественные замки-крепости были разрушены победителями.
Загадочное разрушение катарских замков
Итак, традиционная историческая версия утверждает, что противостояние светской и церковной власти с катарами - это событие тринадцатого века. В ту же эпоху были разрушены и замки побежденных. Однако сохранилось множество свидетельств, что еще в семнадцатом столетии, катарские замки существовали. Причем не как памятники забытой старины, а как действующие военные крепости. У историков на этот счет есть свое объяснение. Мол, после варварского разрушения, французские власти восстановили замки и сделали их своими военными крепостями. В этом качестве замки простояли вплоть до начала семнадцатого века. А потом снова были разрушены уже по второму разу. Чисто теоретически такое, наверное, возможно: разрушили, восстановили, снова разрушили, снова восстановили. Но практически, восстановление и даже разрушение таких гигантских строений, дело очень затратное. Но в этой странной версии, предложенной историками, удивляет не только не обычная судьба этих крепостей, а, то, что все эти метаморфозы происходили только с катарскими замками. Вот, например, что говорят историки о судьбе катарского замка Рокфиксат.
Оказывается в четырнадцатом, пятнадцатом столетиях, уже после разгрома катаров, это была действующая королевская крепость. И, разумеется, королевский гарнизон, нес службу в прекрасно оборудованных укреплениях, а не на седых развалинах. Но, дальнейший рассказ напоминает плохой анекдот. Якобы в 1632 году, король Людовик 13, направляясь из Парижа в Тулузу, проезжал мимо этого замка. Он остановился, и какое-то время стоял в раздумье. А потом вдруг приказал до основания разрушить замок, поскольку в нем не было уже никакой пользы и его стало слишком дорого содержать. Хотя если королевской казне действительно оказалось не под силу содержать замок в боеспособном состоянии, то естественно было бы просто отозвать гарнизон, заколотить казармы и оставить замок разрушатся под воздействием времени и непогоды. Так, например, тихо и естественно, по мнению традиционной, истории, разрушился замок Перпитузо. Скорее всего, этот полу фантастический рассказ, был придуман скалигеровскими историками, уже после 1632 года, чтобы как-то объяснить истинные причины разрушения замка во времена войн первой половины семнадцатого века. Они не могли признаться, что на самом деле крестовые походы против катаров, велись в шестнадцатом, семнадцатом веках. Ведь эти события историки уже отправили в тринадцатый век. Поэтому им и пришлось сочинять нелепую басню о странном приказе короля.
Но если для руин Рокфиксада, историки придумали хоть такое нелепое объяснение, то про замок Монсегюр вообще ничего не стали придумывать. Известно, что он был действующее королевской крепостью вплоть до шестнадцатого века, а потом его якобы просто покинули. Но если король не отдавал приказа его разрушить, почему, же замок оказался в таком плачевном состоянии. Ведь сегодня это просто развалины.
От замка уцелел только наружный пояс стен. О том, что такое строение могло развалиться само собой, не может быть и речи. Даже сегодня видно насколько оно было крепким. Огромные каменные блоки аккуратно подогнаны друг к другу и прочно спаяны цементом. Массивные стены и башни представляют собой единый каменный монолит. Такие стены не разваливаются сами собой. Чтобы их разрушить, нужен порох и пушки. Но зачем было тратить столько сил и средств на разрушение этих мощных укреплений, даже если они потеряли свое стратегическое назначение? На этот вопрос историки ответить не могут.

Катары. Версия новой хронологии
Как мы уже говорили светские и христианские историки считают, что вероучения катаров тесно связаны с идеями религиозной болгарской секты богомилов. Также как и катаризм учение богомилов христианская церковь считает ересью. Известно, что в Болгарию религиозное учение богомилов пришло с востока. Но кто были эти люди и откуда именно они пришли. В истории Павла Дьякона и в летописях герцогов и князей Бенивенских, есть такие сведения. Эти народы были булгары, вышедшие из той части сарматии, которая орошается волгой. Значит, богомилы пришли с волги, поэтому их и назвали булгары, то есть волгари или болгары. А территория их расселения стала называться Болгарией. В тринадцатом веке началось великое монгольское завоевание.
На картах составленных современными историками, показано распространение катаров-богомилов. Испания, Франция, Англия, германия, Греция, Турция, Балканы. Катары пришли в западную Европу на волне великого завоевания четырнадцатого века и оставались там до семнадцатого века. До победы мятежа реформации. После победы мятежа реформации, западноевропейские мятежники начали яростную борьбу с Русью-ордой и с остатками выходцев из Руси. С остатками русско-ордынских войск и в том числе с татарами. И некоторые крестовые походы, которые якобы происходили в тринадцатом веке и были направлены против катаров в западной Европе, это на самом деле походы семнадцатого века, в результате которых катары были разгромлены и уничтожены. Эта версия дает ответ на вопрос, кто построил больше сотни замков, называемых катарскими.
Совершенно очевидно, что не большому национальному государству, было не под силу построить такую мощную сеть военных укреплений. Тем более такие крепости не могли построить, а главное содержать, мелкие князья и бароны. Это могло себе позволить, только очень сильное и богатое государство. Катарские замки были опорными пунктами русско-ордынской империи на завоеванных и колонизированных ею территориях западной Европы. Это была грандиозная сеть укреплений, которая контролировала все передвижение по западной Европе. Во время мятежа реформации, все эти замки были захвачены и разгромлены мятежниками. В сохранившихся документах обнаружили, что эти замки, замки катаров, до шестнадцатого, начала семнадцатого века, стояли совершенно невредимыми.
Их разгромили, только начиная со второй половины семнадцатого века. Хотя историки сегодня заявляют, что эти замки были разрушены давным-давно, в тринадцатом, четырнадцатом веках. Конечно, полностью восстановить картину тех событий, могли бы тексты, написанные самими обитателями замков. Но после их разгрома, письменных документов практически не осталось. Историки говорят, что вероятно катарские сочинения, были довольно многочисленными. Однако жестокие преследования, привели к исчезновению большинства текстов, так как католическая церковь подвергла катаризм, наиболее ужасающим репрессиям. Ведь для мятежников-реформаторов, были опасны не только живые носители идеи великой империи катары, но и любые материальные свидетельства о жизни этих людей, их истинном предназначении и вере.
Катары еретики или святые?
В современном мире отношение к катарам смешаны. С одной стороны в южной Франции широко рекламируют громкую и трагическую историю не покорившихся катаров. Катарские города и замки, история о кострах инквизиции, привлекают внимание туристов. С другой стороны постоянно подчеркивают, что катаризм это очень вредная ересь и существовала она так давно, что от нее уже не осталось и следа. А между тем, изображение катарских и христианских символов, до сих пор сохранились в некоторых готических соборах Франции.
Вот так выглядит катарский крест, вписанный в круг. Такие же кресты можно увидеть в известном соборе парижской богоматери. Причем катарские кресты присутствуют здесь даже в двух видах. И как плоские, и как рельефно выпуклые. Они изображены на каменных скульптурах, на мозаике, на витражах, на главных колоннах внутри храма. Даже над главным входом в собор на центральном портале, с изображением страшного суда, высится скульптурное изображение Христа. За его головой на стене высится каменный катарский крест. Сравним это изображение с православными иконами, на которых за головой Христа обычно изображен нимб, а на фоне нимба — крест. Как видим, эти изображения практически идентичны. Значит ничего еретического в катарском кресте нет. Почему же тогда христианская церковь уже несколько столетий утверждает, что катарская вера это ересь?
А катарские символы еретические? И почему эти символы гордо красуются не в какой-нибудь провинциальной церквушке, а на колоннаде одного из самых главных храмов не только Парижа, но и всей Франции. Сегодня считается, что возведение собора началось в тринадцатом веке. Причем историки подчеркивают, что строили его в эпоху борьбы с катарами. Но почему борясь с ними церковь, разрешила покрывать стены храмов крестами своих врагов - еретиков катаров? Не потому ли что катарство было вовсе не ересью, а вполне православным христианством того времени? Но после победы мятежа реформации, как это часто бывает, победители объявили побежденных еретиками. Сегодня, даже на страницах учебников катары представлены еретиками, которых необходимо было уничтожить. Это было все сделано просто на бумаге. Это чистая бумажная политическая и идеологическая деятельность семнадцатого века. На самом деле, в жизни все это было совсем не так. Это было православное христианство, и символика у него было православная. Вид катарских крестов соответствует и православным крестам из русских церквей пятнадцатого века.
Так кто же были такие катары?
Катары это завоеватели, которые пришли в западную Европу из Руси-орды тринадцатого, начала четырнадцатого века. Они не были еретиками и исповедовали православное христианство, единую религию всей империи той поры. В семнадцатом веке во время мятежа реформации, катары остались до конца верными своей вере, своим идеям, идее великой империи. Они сражались до последнего против мятежников в западной Европе. К сожалению, катары были не единственной и не последней жер
Как принято считать в современной европейской историографии , слово «катары» применительно к представителям этого движения было впервые употреблено в 1163 году рейнландским клириком Экбертом из Шёнау.
Когда я был каноником в Бонне, то часто вместе с братской мне душой (unanimis) и другом Бертольфом спорил с ними и обращал внимание на их ошибки и методы защиты. Много вещей я узнал от тех, кто был с ними вначале, а потом ушёл… Это люди, которых у нас в Германии называют «катарами», во Фландрии «фифлами», во Франции «ткачами», потому что многие из них предпочитают это ремесло…
Экберт соединил распространённое ранее латинское название cattari (фр. catiers , то есть «котопоклонники» - из-за якобы бытовавших у еретиков ритуалов с участием кошек) с греческим καθαρος , тем самым ассоциируя их с существовавшим в эпоху раннего христианства движением новациан, именовавших себя «кафарами» (от греч. καθαροί - «чистые, неосквернившиеся») .
Термин впоследствии часто использовался в документах инквизиции, откуда перешёл в первые исторические исследования, посвящённые «альбигойской ереси». Несмотря на то, что слово «катары», по сути, было пренебрежительной кличкой, оно надолго закрепилось в качестве основного названия, наряду с «альбигойцами» . Кроме этих двух, в адрес катаров в разных местностях употреблялись также названия «манихейцы», «оригенисты», «фифлы», «публикане», «ткачи», «болгары» (фр. bougres ), «патарены».
История
Возникновение и истоки
Катаризм не являлся принципиально новым мировоззрением, возникшим в Средние века . Богословские воззрения, впоследствии характерные для катаризма, можно найти также у первых учителей христианства, испытавших влияние гностицизма и неоплатонизма (напр., Ориген Александрийский).
Первые исследователи, опиравшиеся преимущественно на антиеретические труды католических богословов, вслед за их авторами искали корни катарского вероучения в восточных влияниях, особенно в зороастризме и манихействе , проводя прямую линию происхождения катаров от Мани через павликиан и богомилов . Соответственно, катаризм считался изначально нехристианским феноменом, утвердившимся на почве европейского христианства.
В настоящее время, после открытия большого числа новых источников, эти взгляды подвергаются пересмотру. Большинство современных исследователей (Ж.Дювернуа, А.Бренон, А.Казенаве, И.Хагманн и др.) считают катаризм одним из многочисленных, однако уникальных христианских движений, выявившихся одновременно в Западной и Восточной Европе в период эпохи Тысячелетия . Это движение было представлено различными общинами , не обязательно связанными между собой и иногда различавшимися доктриной и образом жизни, но представлявшими некое единство в области структуры и обряда, как во временных рамках - между X и XV столетиями, так и в географических - между Малой Азией и Западной Европой. В Восточной Европе и Малой Азии к таким общинам относят богомилов . Богомилы Византии и Балкан, а также катары Италии, Франции и Лангедока представляли собой одну и ту же церковь .
Для катарских текстов характерно отсутствие отсылок к текстам нехристианских религий. Даже в наиболее радикальных своих положениях (напр., о дуализме или о перевоплощениях) они апеллируют только к христианским первоисточникам и апокрифам . Теология катаров оперирует теми же понятиями, что и католическая теология, «то приближаясь, то удаляясь в их толковании от генеральной линии христианства» .
Первые средневековые упоминания
Ожидания конца света, который сначала предсказывали в 1000 году , потом в 1033 году , а также очевидный кризис европейского христианства , породили в народе надежды на обновление религиозной жизни. К этому периоду относятся как реформы, санкционированные папством (см. Клюнийская реформа), так и неофициальные (еретические) попытки реализовать идеал апостольской жизни. Уже в первых монашеских хрониках эпохи Тысячелетия в одном ряду с описаниями различных бедствий появляются сообщения о «еретиках, колдунах и манихейцах».
Восточная Европа
Ранние свидетельства о богомилах в Византийской империи относятся к X-XI вв., причём богомилы в них выглядят как собратья западных еретиков, которых с XII века начинают называть катарами. Сами катары, по свидетельству западноевропейского монаха Эвервина из Штайнфельда, претендовали на то, что их традиция сохранялась с давних времен ещё их братьями в Греции, от которых воспринята и продолжается ими самими до сего дня.
Западная Европа
В самый разгар движения за духовную реформу в XI веке одновременно во многих регионах Западной Европы появляются духовные движения, организованные в монашеские общины, опирающиеся на Евангелие , отрицающие легитимность иерархии Римской церкви, ряд её догматов (напр., о человеческой природе Христа) и таинств (брак, Евхаристия). Поскольку эти движения практиковали ещё и крещение через возложение рук, характерное для катаров, историки считают их протокатарами.
Различные духовные направления XI столетия имели много общих черт. Они отказывались от крещения маленьких детей, отрицали таинство исповеди и таинство брака , которое как раз тогда вводилось папством. Они также отвергали действенность церковных таинств , если совершающий их священник находится в состоянии греха, а также критиковали культ Распятия, как орудия казни.
Другие источники того времени говорят о сожжении «публикан» в Шампани и Бургундии , «фифлов» во Фландрии , «патаренов» в Италии, и заявляют об «ужасно мерзких сектах ткачей или ариан» на Юге Франции, которых иногда называли «альбигойцами ». Есть основания считать, что все эти названия относятся к одному и тому же виду организованных христианских общин, которые господствующая Церковь называла «еретическими».
Церкви европейских катаров
Окситания и Франция
Окситанские епископства катаров XII столетия возникли на территории двух крупных феодальных образований: графа Тулузского (вассала короля Франции) и союза виконтств, расположенных между Барселоной и Тулузой и объединённых семьёй Транкавель (Каркассон, Безье, Альби и Лиму). Граф и виконты этих земель не выказывали особого рвения в преследовании ереси. В 1177 году граф Раймунд V, искренне враждебный к еретикам, писал капитулу Сито , что он не в состоянии побороть ересь, потому что её поддерживают все его вассалы. Его сын Раймунд VI ( -) был настроен к еретикам дружелюбно. Династия Транкавелей долгое время оказывала ереси ещё большее содействие. Наконец, графы де Фуа пошли ещё дальше, непосредственно вовлекаясь в катарскую церковь.
В течение нескольких поколений соотношение сил в окситанских сеньориях было в пользу катарских церквей, и это исключало любые преследования. Перед крестовым походом против альбигойцев катаризм охватил на западе территории от Кверси до Гурдона и Аженуа («Церковь Ажен»); в центре - территории Тулузэ, Лаурагэ и графства Фуа («Тулузская Церковь»), на севере - Альбижуа («Церковь Альби»), на востоке - Кабарде, Минервуа и Каркассе («Церковь Каркассона»), простираясь даже до Корбьер и к морю. В 1226 году было создано пятое епископство, в Разес (регион Лиму), которое раньше входило в «Церковь Каркассе».
Северная Италия
Документальные свидетельства о среде итальянских катаров, имеющиеся в распоряжении историков, выявляют четыре характерных особенности этой среды:
Организация церковной жизни в катарских общинах
Духовенство
Для катаризма с самого начала был характерен резкий антиклерикализм (критика так называемых «предрассудков церкви Римской» - культа святых, реликвий, изображений и т. д.). Однако, критикуя «отступничество церкви Римской», они никогда не утверждали того, что Церковь и её иерархия не нужны вообще.
Как и у католиков, в церкви катаров существовало разделение на клир и мирян . Миряне (лат. credentes , или «верующие») не должны были отрекаться от своих прежних католических привычек или привязанностей, но они признавали духовный авторитет катарских наставников (лат. perfecti , или «совершенных»).
Катарский клир соединял в себе смешанные функции священников и монахов. К нему причислялись как мужчины, так и женщины. Подобно католическим священникам, катарские совершенные проповедовали, обеспечивали ритуал спасения душ и отпущение грехов. Подобно монахам, они жили в общинах, соблюдали посты и воздержания и ритуальные часы молитв.
Так же, как и католический епископ в своей епархии, катарский епископ являлся источником священства, от его рук происходило посвящение членов общины. Крещённые (высвяченные) епископом верующие вели жизнь, посвященную Богу, и считали, что имеют власть отпускать грехи. Эта власть, как считалось, передаётся от «одних „добрых людей“ к другим». В текстах катаров она составляет суть «ордена святой Церкви». Катары считали, что их епископы передают друг другу эту традицию по прямой линии от апостолов .
Во главе каждой катарской Церкви стоял епископ и два его помощника (коадъютора) - «старший Сын» и «младший Сын», также высвяченные епископом на этот сан. После смерти епископа, «старший Сын» становился его непосредственным преемником. Территория епископства была разделена между определённым количеством диаконов : они играли посредническую роль между епископской иерархией и общинами, находящимися в деревнях и городках, которые они регулярно посещали. Сами епископы редко жили в крупных городах, предпочитая общины небольших городков. По мнению историков, такая церковная организация напоминает структуру ранней христианской Церкви.
Общины
Подобно католическим монастырям, монашеские дома катаров были местами, где проходило обучение неофитов, желавших вести религиозную жизнь. Там они на протяжении двух или трёх лет изучали катехизис и свои религиозные обязанности, после чего приносили необходимые обеты, и епископ посвящал их путём наложения рук. Церемония крещения (посвящения) была публичной, и на ней обязательно присутствовали верующие.
Проповедники и проповедницы регулярно покидали свои общины для исполнения религиозного долга, а также навещали родственников и друзей в городе или его окрестностях.
Женские и мужские общины катаров жили собственным трудом. Некоторые из этих общинных домов были подобием современных хосписов , где верующие получали духовное руководство и утешение, и обеспечивали себе - как они говорили, «счастливый конец», приносящий спасение души.
Мужские монашеские общины управлялись «старшими», женские - «приориссами» или «управительницами». Монашеские дома катаров не носили закрытого характера и часто имели при себе мануфактуры. Они были очень многочисленны в городах, активно участвуя в местной экономической и социальной жизни.
Многие жители Лангедока считали катаров «добрыми христианами, которые имеют большую силу спасать души» (из показаний перед инквизицией).
Катарские монахи следовали «Правилам справедливости и правды» и евангельским предписаниям. Они избегали убийства (в том числе убийства животных), лжи , осуждения и так далее. Всё это считалось тяжким грехом, обесценивавшим нисшедший на них Дух. Согрешивший должен был совершить покаяние и заново пройти «consolament» - таинство, название которого непосредственно происходит от общехристианского термина «Утешитель» (Параклет).
Расцвет катаризма
Монсегюр
Сами же они своей жизнью и нравами на практике демонстрировали чистоту и ригоризм апостольского способа жизни, что признавали даже их противники. Катары были сторонниками абсолютного ненасилия, отказывались лгать и клясться. Многие люди того времени, как это видно из протоколов Инквизиции воспринимали их как бедных странствующих проповедников, несущих Слово Божье. Исследования 70-х - 80-х годов XX века показывают катаризм как буквальное следование заповедям Христовым, и особенно предписаниям Нагорной проповеди . Как полагают современные исследователи , этот евангелизм являлся одним из центральных пунктов катаризма.
Тем не менее, дуалистическое христианство катаров было альтернативной религиозной конструкцией. Они не призывали к реформе клира и «возвращению к Писанию». Они заявляли о своём стремлении вернуться к чистоте Церкви апостолов, которой была не «узурпаторская Римская церковь», а их собственная, «церковь Добрых христиан».
Однако при всём своём резком критицизме в адрес института католической церкви (по их терминологии - «синагоги сатаны»), катары были не склонны к проявлению враждебности в отношении самих католиков. Существует много свидетельств о мирном общении верующих обеих религий именно в тех областях, где катаризм имел значительное влияние. Сосуществование между еретическими монахами и католическим клиром на местном уровне, как правило, происходило без столкновений. Из документов Инквизиции следует, что верующие, в своей массе, считали себя принадлежащими сразу к обеим церквям, полагая, что обе они с большей вероятностью спасут душу, чем одна.
Наоборот, там, где господствовала католическая церковь, катары нередко становились объектом преследования. Отношение к ним со стороны римских иерархов было резко нетерпимым. Местные правители, верные папе, стремились захватить их и «кого не могли оторвать от безумия, сжигали огнём».
В первые десятилетия преследования были скорее эпизодическими. Пока осуждение еретиков было делом епископских судов, Церковь колебалась в выборе методов репрессий. Вначале казни происходили по приговорам светской власти. Но постепенно соборы и понтификальные буллы подготовили почву для законотворчества Церкви в области ереси.
В конце XII века противостояние между катаризмом и католицизмом усилилось. Папство, встревоженное распространением ереси, усилило нажим, что вызвало ответное обострение критики со стороны катаров. Папа посылал цистерцианские миссии в Тулузу и Альби в 1178 и 1181 годах, но миссионеры не пользовались содействием местных правителей и практически ничего не добились от них в деле преследования ереси.
Для крестового похода против альбигойцев характерны жестокие расправы с мирным населением (Безье в 1209 году, Марманде в 1219 году), а также огромные массовые костры, где сжигали еретиков - в Минерве (140 сожжённых в 1210 году), Лаворе (400 сожжённых в 1211 году). Однако местное население, для которого война носила как религиозный, так и национально-освободительный характер, оказывало активное сопротивление крестоносцам, поддерживая своих законных графов.
В 1220 году окончательно стало ясно, что попытка насадить в Тулузе и Каркассоне католическую династию Монфоров потерпела неудачу. Общины катаров, которым крестоносцы поначалу нанесли серьёзный урон, начали постепенно восстанавливаться.
В 1226 году Людовик VIII Французский, сын Филиппа-Августа, решил восстановить себя в правах на средиземноморские графства, переданные ему Монфором, и сам возглавил французскую армию, двинув её против Раймунда Транкавеля, Раймунда VII Тулузского и их вассалов. Несмотря на ожесточённое сопротивление в некоторых регионах (особенно в Лиму и Кабарет), королевская армия завоевала Лангедок. В 1229 году граф Тулузский, покорившись, подписал мирный договор, ратифицированный в Париже.
Окончательный разгром катарского движения
Жителей Каркассона изгоняют из города во время осады войсками Симона де Монфора
В 1229 году, король окончательно выиграл войну, объявленную папой, а последний воспользовался победой короля: с этого времени Церкви была предоставлена полная свобода действий. Светские властители - защитники еретиков - согласно постановлениям Латеранского Собора 1215 года и Тулузского Собора 1229 г. были лишены земель и имущества. Общины катаров укрылись в подполье. Однако они оставались очень многочисленными. Для защиты от репрессий они организовали тайную сеть сопротивления, основанную на общественной и семейной солидарности.
В трактатах и ритуалах катаров нет никаких упоминаний, разъясняющих последовательное переселение душ из одной телесной тюрьмы в другую. Только в антикатарской полемике и показаниях перед Инквизицией содержится информация на эту тему. Однако теоретические тексты Добрых Христиан утверждают, что вопреки тому, чему учат католические клирики, Бог не создает бесконечно новые души, чтобы однажды остановить время и судить всех, в том состоянии и возрасте, в котором Он их застанет. Наоборот, определенное количество божественных душ пало в рабство тел, и теперь они должны «пробудиться» от этого мира, перед тем, как услышать призвание покинуть его и вернуться на небесную родину.
Как уже было сказано, они верили во всеобщее спасение всех божественных душ, попавших в рабство тел во время творения злого мира. Они считали, что переселяясь из тела в тело после своего падения, эти души получат опыт и возможность познания Добра, осознают свою принадлежность к иному миру, будут призваны Богом воссоединятся с Ним .
Средство Спасения, согласно катаризму, было евангельским, но при этом радикально отличным от искупительной жертвы католического Христа.
Катары считали, что, на самом деле, Сын Божий пришёл в этот мир не для того, чтобы искупить первородный грех Своей жертвой и смертью на кресте, но просто для того, чтобы напомнить людям, что их Царство не от мира сего, и научить их спасительному таинству, которое навсегда избавит их от зла и от времени. Это таинство крещения Святым Духом, Утешителем , переданное Христом Своим апостолам.
Ритуал и культ
«Благая весть» Евангелия, с точки зрения катаров, состоит в просвещении Словом Христовым, в пробуждении душ, получающих спасение через крещение путем наложения рук, о котором сказал Иоанн Креститель: «Идущий за мною сильнее меня… Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Христос вдохнул этот Дух в апостолов , которые передали его своим ученикам.
Таким образом, в катарской интерпретации Евангелия главное значение принадлежало Пятидесятнице , а не Страстям . Скорее всего, эта интерпретация является более архаической. И в интерпретации катарами священных текстов, и в их литургии, исследователи находят очень большое сходство с ранним христианством.
Таинство consolament, практикуемое катарами, служило одновременно и крещением , и посвящением, и причастием, поскольку одного только крещения водой было абсолютно недостаточно. Консоламентом также давалось отпущение грехов, вступление на путь покаяния, знаком власти связывать и развязывать, которым отмечена Церковь Христова. Уделяемое умирающим, это таинство представляло собой также и соборование. И, наконец, соединяя душу с духом, оно являлось как бы духовным, мистическим браком. Единственное, чего в нём не было, так это Преосуществления.
Крещение путём consolament являлось коллективной, открытой для всех публичной церемонией. В сопровождении Старшего или Приориссы неофит приходил в дом епископа, «чтобы отдаться Богу и Евангелию», перенять традицию молитвы «Отче Наш» - наиболее важной молитвы, которую следовало регулярно повторять в определенное время и определенное количество раз, а потом принять саму Книгу Писания. Далее, после долгой церемонии, епископ и все присутствующие Добрые Люди возлагали правые руки на голову неофита и произносили первые строфы Евангелия от Иоанна. Consolament для умирающих был аналогичным ритуалом: его уделяли двое Добрых Людей в присутствии семьи и друзей умирающего.
Документы показывают, что Добрые Христиане часто присутствовали за столом верующих. В начале каждой трапезы - исключительно вегетарианской - старшие из Добрых Мужчин или Добрых Женщин благословляли хлеб, преломляли его и раздавали всем присутствующим. Этот ритуал, наблюдаемый уже с эпохи Тысячелетия, заменял им евхаристию. Они делали это в память о Тайной Вечере, но не считали, что едят Тело Христово, когда преломляют хлеб; для них эти слова из Евангелия символизировали Слово Божье, которое распространяется по миру.
Если какой-нибудь верующий встречал Доброго Мужчину или Добрую Женщину, то приветствовал их тройной просьбой о благословении, или, на окситан, melhorier и трижды простирался перед ними в поклоне.
Под конец всякой ритуальной церемонии Христиане и верующие обменивались поцелуем мира, мужчины между собой, а женщины - между собой. Ригористические обеты целомудрия фактически запрещали катарским монахам любые физические контакты с лицами противоположного пола.
Оценка исторического значения катаризма
Долгое время в исторической литературе, как в значительной части отечественной, так и зарубежной, оценка исторической роли катарского движения была однозначно негативной, хотя в советской традиции, например, в БСЭ , прослеживалась тенденция к положительной оценке катаризма как движения сопротивления диктату средневекового папства , которое крайне негативно оценивалось в СССР. Главным источником, на который опирались исследователи, были опровергающие эту средневековую ересь трактаты - антиеретические Суммы, составленные теологами XIII столетия. Катаризм рассматривался как антицерковное, во многом варварское еретическое учение, угрожавшее пошатнуть позиции христианства в Европе. С 80-х годов ХХ в. после работ оксфордского историка Роберта Мура наметился пересмотр отношения к катаризму. Сегодня большинство западных исследователей катаризма склоняется к более позитивной точке зрения. По их версии, катары с их учением о любви и неприятием насилия, были попыткой европейского общества вернуться к истокам христианства (предвосхитив тем самым Реформацию Лютера) и тем самым создать альтернативу католицизму, переживавшему глубокий кризис.
С этой же позиции оценивается значение других крупных религиозных движений Средневековья, предшествовавших Реформации - вальденсов , бегинов и т. п. Однако именно катаризм считается наиболее длительной и успешной из таких попыток. Силовое подавление этой попытки, принявшее характер опустошительной войны и последовавших жестоких репрессий, расценивается как один из первых в истории Европы прецедентов торжества тоталитарной идеологии.
Современная историографическая дискуссия по поводу катаризма
До 1950 года изучение этого вопроса находилось под исключительным влиянием теологов. Это обстоятельство привело к разногласиям в оценке происхождения катаризма. Одни исследователи (в их числе Л. П. Карсавин и автор одной из первых крупных монографий по истории Инквизиции Генри Ли) считают катаризм «неоманихейством», пришедшим на Запад с нехристианского Востока: «Существо догмы катаров совершенно чуждо христианству» . Эту позицию разделяют и некоторые современные исследователи . Однако разработка архивов Инквизиции привела к пересмотру господствующего среди историков мнения.
Катаризм - это одна из религий, которая формировала человеческое сознание, укрепляла сердца и вдохновляла огромное количество людей, от Малой Азии до Атлантического Океана, принять решение посвятить себя Богу, в период по меньшей мере, с X по XV век.... Он является одной из форм христианства и опирается - даже если мы сочтем это искажением - на Слово и обряд, который мы сами впитали с молоком матери.
Эти исследователи подчёркивают многочисленные общие черты, присущие как катаризму, так и в целом европейской культуре в XI-XII столетиях. Наиболее серьёзный вклад в опровержение «традиционного» видения этой ереси как ветви восточного манихейства внес Жан Дювернуа. В его книге «Религия катаров» впервые, благодаря изучению полного собрания различных типов документов был проведен исчерпывающий анализ исторических данных средневекового религиозного феномена, называемого катаризмом. Автор пришёл к выводу об исключительно христианском контексте катаризма, и с тех пор этот вывод является господствующим в среде современных историков .
Терминология катаров
Adoremus См. Молитвы
Adoratio Термин из инквизиторского словаря, презрительное обозначение ритуала просьбы о благословении, называемый катарами melhorament или melhorier. Акцентируя внимание на жесте коленопреклонения, которым сопровождался этот обряд, Инквизиция пыталась высмеять эту практику, называя её обрядом «почитания» верующими еретиков.
Albanenses Так называли итальянские доминиканцы членов катарской Церкви Децензано (возле озера Гарда), предположительно основанной епископом по имени Альбанус, который в конце столетия спорил с другим катарским епископом по имени Гаратус. В XIII веке последователи Альбануса исповедовали так называемый абсолютный дуализм епископа Беллесманцы и его Старшего Сына Джованни де Луджио, автора «Книги о двух началах», тоже ставшего епископом около 1250 года.
Apareilement или Aparelhament Окситанское слово, обозначающее «приготовление» и представляющее собой церемонию коллективного покаяния, наподобие монашеской исповеди. Эта исповедь проводилась ежемесячно диаконами в мужских и женских монашеских общинах катаров. Эта церемония, называемая также servici, детально описана в Лионском Ритуале катаров. Для тех, кто хочет узнать больше, рекомендуется «La religion des cathares» Jean Duvernoy, в двух томах.
Caretas или Поцелуй мира Известная по катарским ритуалам практика, означающая «примирение, прощение» является распространенной в Средневековье христианской практикой. Поцелуй мира завершал литургические церемонии катаров. Свидетельства перед Инквизицией подробно описывают этот ритуал, говоря о «поцелуе в лицо» или даже «в губы»: «Этим поцелуем Совершенные дарят нам мир, целуя два раза в губы, затем мы целуем их два раза таким же образом.» Цитата из «Le dossier de Montsegur: interrogatoires d’inquisition 1242-1247». Показания Жордана де Перейль. Между Добрыми Мужчинами и Добрыми Женцинами, которым Правила запрещали прикасаться друг к другу, поцелуй происходил через посредство Книги Евангелия.
Consolamentum или Consolament Единственное таинство, практикуемое катарами и называемое ими «святым крещением Иисуса Христа». Речь шла о духовном крещении (в противоположность «водному крещению» Иоанна). Оно осуществлялось наложением рук, согласно обряду, схожему с раннехристианским (без материальных составляющих вроде воды и елея). Его ещё называли крещением Святого Духа- Утешителя, дополняющему крещение водой и сошедшего на Апостолов во время Пятидесятницы. Для катаров это крещение, совершаемое истинной христианской Церковью, имело также значение покаяния, поскольку оно смывало грехи и спасало душу. Оно совершалось над неофитами и означало их вступление в христианскую жизнь (орден), а для верующих - спасение души и счастливый конец (соборование). Литургические слова и жесты этого обряда подробнейшим образом описаны в трех катарских Ритуалах, дошедших до нас, как и в протоколах Инквизиции. «… Теперь, желая стать совершенным, я обретаю Бога и Евангелие, и обещаю никогда больше не есть ни мяса, ни яиц, ни сыра, ни жирной пищи за исключением растительного масла и рыб, до конца своей жизни больше не клясться и не лгать, и не отрекаться от веры под страхом огня, воды или другого способа умереть. После того, как я пообещал все это, я прочитал Pater Noster … Когда я сказал молитву, совершенные возложили Книгу мне на голову, и прочитали Евангелие от Иоанна. По окончании чтения они дали мне Книгу для поцелуя, затем мы обменялись „поцелуем мира“. Затем они молились Богу, делая много коленопреклонений.» Цитата из « Документов Монсегюра: свидетельства инквизиции 1242-1247» Записано со слов Гийома Тарью де ла Гальоль.
Convenenza Окситанское слово, означающее «соглашение, договор». Во времена войны и преследований, начиная с осады Монсегюра , Convenenza стала договором между Добрым Человеком и верующим, позволяющим принять Consolamentum, даже в том случае, если человек потерял дар речи. Жордан дю Ма был ранен и получил утешение "у барбакана, который был возле машины. Туда пришли Добрые Люди Раймунд де Сен-Мартин и Пьер Сирвен, которые дали раненому утешение, хотя он уже утратил возможность говорить…"Цитата из « Документов Монсегюра: свидетельства инквизиции 1242-1247» Записано со слов Азалаис, вдовы Альзю де Массабрак.
Endura Окситанское слово, означающее «пост ». Инквизиторы XIV века употребляли его, пытаясь обвинить последних Добрых Людей в поощрении самоубийств у верующих, которые получили утешение на ложе смерти, но выжили. Однако исследователи считают, что это было неверной интерпретацией ритуальных постов на хлебе и воде, которые новокрещенные должны были соблюдать, согласно Правилам. Существует только несколько примеров голодовок, предпринимаемых Добрыми Людьми, пойманными Инквизицией, которые отказывались от воды и пищи, чтобы не говорить на допросах, потому что инквизиторы предпочитали сжечь их живыми.
Melhorament или melioramentum Окситанское слово, означающее «стремление к лучшему». Приветствие Доброго Человека верующим, представляемое инквизиторами как поклонение. Встречая Доброго Мужчину или Добрую Женщину, верующий становился на колени и трижды простирался перед ними, говоря: «Добрый Христианин (Добрая Христианка), прошу благословения Божьего и Вашего.» На третий раз он добавлял: «И молитесь за меня Богу, чтобы Он сделал из меня Доброго Христианина и привел к счастливому концу». Монах или монахиня отвечали на это: «Прими благословение Божье», а потом: «Мы будем молиться за Вас Богу, чтобы Он соделал из Вас Доброго Христианина и привел к счастливому концу».
Отче Наш или Святое Слово, фундаментальная молитва Христиан у катаров. Они говорили её ежедневно во время Часов, во время уделения Consolament, перед едой итд. Их версия не отличалась от католической кроме одного слова: вместо «хлеб наш насущный» они говорили «хлеб наш присносущий» - вариант, восходящий к переводу Св. Иеронима и акцентирующий на символическом значении хлеба, означавшего Слово Божье. Кроме того, они использовали греческую доксологию «Ибо Твое есть Царствие, и сила, и слава, во веки веков», на которую основывали свою веру во всеобщее спасение.
Бедные католики Катары были не единственными, восстававшими против клира, который накапливал богатства вопреки словам евангелистов. Дюран Уэска был первым создателем Ордена Бедных Католиков. После Собора в Памье в 1207 г., встретившись лично со святым Домиником, Дюран Уэска таким образом помог появлению Ордена Бедных Католиков. Они построили в 1212 г. два монастыря для братьев и для сестер в Эльне (Руссильон). Главная задача ордена состояла в том, чтобы постоянно проповедовать, подобно Совершенным жить в бедности, молиться и спать на голых досках… Дюран Уэска на сегодняшний день известен по сражениям с еретиками, а в особенности своим трудом «Liber contra Manicheos».
Верующие Согласно Эвервину де Стейнфельду, в середине XII века, в Рейнских землях, верующие представляли собой средний этап между простыми верными (или слушателями) и еретическим клиром христиан или избранных. Путем возложения рук верующий становился неофитом . В Лангедоке XIII века Инквизиция уже различает только простых «верующих в еретиков», то есть людей, слушающих науку еретиков. Фактически верующие представляли собой массу верных, которые «верят в то, что говорят еретики и считают, что еретики могут спасти их души», - говорится в реестрах Инквизиции. В начале 14 столетия Пьер Отье определял верующего как человека, ритуально приветствуюшего Добрых Людей и просящего их благословения.
Грааль В средневековых романах Грааль ассоциируется с чашей, в которую была собрана кровь Иисуса и которую привез в Западную Европу Иосиф Аримафейский . Она стала объектом мистических поисков рыцарей Круглого Стола в таких произведениях, как: « Сказание о Граале» Кретьена де Труа , « Персиваль » Вольфрама фон Эшенбаха и прочих Этот миф о Граале, основанный на кельтской мифологии , использовали цистерианские проповедники. Между легендами о Граале и катаризмом с первого взгляда нет видимой и косвенной связи. Книга немецкого ученого Отто Рана «Крестоносцы против Грааля» (изданная в 1933 г.) впервые поставила этот вопрос на рассмотрение. В книге Жерара де Седа «Тайна катаров» приводятся все-таки имевшие место доказательства подобной связи.
Грехи Как и во всех монотеистических религиях , грех является нарушением человеком божественного закона. Для Христиан катаров этот божественный закон являлся четкими предписаниями и заповедями Евангелия: грехами для них были убийство, прелюбодеяние , насилие, ложь, кража, злословие, клятва, осуждение… Любой из этих грехов означал для Христианина, то есть для катарского монаха, немедленную утрату христианского состояния. «Освобожденный от зла» через крещение покаянием, Consolament, и получивший благодать, Христианин у катаров не должен был грешить, потому что зло не могло больше действовать через него. Добрый Человек, который солгал, убил, поклялся или сознательно прикоснулся к женщине, должен был пройти через повторное крещение и повторное послушничество.
Две Церкви Пьер Отье и его товарищи проповедовали Евангелие ещё более ясно и аргументировано, чем их предшественники. Жестоко преследуемые, они ассоциировали себя с Христом и Его апостолами, которых мир преследовал до них, и называли Римскую Церковь-преследовательницу злобной и лживо христианской. Перекликаясь с рейнскими еретиками 1143 года, Пьер Отье проповедовал: «Есть две Церкви, одна гонима, но прощает, а другая владеет и сдирает шкуру». Каждый в то время понимал, какая есть Церковь Христова, а какая - от мира сего.
Джованни де Луджио Упоминается с 1230 года как Старший Сын катарского епископа Церкви Децензано. Возможно родом из Бергамо. Он является одним из наиболее ученых клириков своего времени. Он написал теологический катарский трактат, известный под названием «Книга о двух началах», от которого до нас дошёл только сокращенный вариант. Эта книга прежде всего была написана против тезисов катарского иерарха Дидье из Церкви Конкореццо и является вершиной катарской теологической рефлексии относительно проблемы зла . Трактат Джованни де Луджио написан по всем правилам средневековой схоластики середины XIII века. Он стал епископом Церкви Децензано около 1250 года, но через несколько десятилетий исчезает из документов, возможно став жертвой репрессий 1270-х годов в Италии.
Диаконы В катарской Церкви диакон являлся первой ступенью иерархии. Диаконы катаров должны были посещать религиозные дома для администрирования и дисциплинарных совещаний на определенных территориях внутри каждой Церкви. Диаконы также проводили церемонию коллективной исповеди и покаяния в мужских и женских религиозных домах. Религиозные дома, где жили сами диаконы, играли роль странноприимных домов. Все диаконы у катаров были мужчинами, нет источников, которые указывают на существование диаконисс.
Дом (монашеский) Монахи и монахини у катаров жили в небольших женских и мужских общинах в религиозных домах, напоминающих католические монастыри , но со свободным входом и выходом. Там они занимались физическим трудом и совместно практиковали ритуалы и таинства. Некоторые из этих домов служили также гостиницами, больницами или хосписами; некоторые имели специфические функции школ или семинарий. Таких монашеских домов, открытых для посещения, было множество в маленьких городках Лангедока . Большинство из них состояло всего из нескольких человек, иногда членов одной и той же семьи. Вдовы, замужние женщины, родившие многих детей, девушки-бесприданницы, - одним словом, все те, кто решил посвятить себя Богу и достичь спасения в качестве Добрых Женщин - жили в общинах, отнюдь не изолированных от мира, вместе со своими сестрами, матерями, тётями, иногда в том же доме, где жили остальные родственники, а иногда в соседнем доме.
Епископы катаров Общины у катаров управлялись получившими посвящение епископами на манер ранней Церкви. Как и католические епископы, они имели право посвящения вступивших в христианскую общину в их Церкви или епископства. Как епископы в Православной Церкви , они также были монахами. Первые еретические епископы упоминаются в Рейнских землях между 1135 и 1145 гг. Под конец 12 столетия уже известен епископ Церкви Франции, Ломбардии и четыре епископства Лангедока . Над епископами не было никакой централизованной власти наподобие папской, все Церкви были поместными.
Крещение Таинство , которое во всех христианских Церквях обозначает вступление в христианскую жизнь. В ранней христианской Церкви крещение означало также покаяние и отпущение грехов . Акт крещения тогда был двойным: водой (путем погружения) и Духом (путем возложения рук). Позже, Римская Церковь разделила два эти обряда, оставив название крещения за крещением водой, и сохранив возложение рук для посвящения епископов. В то же время значение крещения водой сузилось до смывания первородного греха , и все чаще стало совершаться над маленькими детьми. В катарских ритуалах Consolament, возложение рук, все время называется крещением: « Святое крещение Иисуса Христа», или «духовное крещение Иисуса Христа». Катары по-видимому сохранили черты крещения, характерного для ранней Церкви: руки возлагали только на взрослых, которые осознавали происходящее, и просили отпустить им грехи. Для них это было единственное истинное крещение, потому что крещение водой или «крещение Иоанново», совершаемое в Римской Церкви было с их точки зрения недостаточным для спасения. Кроме того, они считали, что только их крещение «основано на Писании».
Кладбища Катары не придавали никакого значения сакрализации тела и не верили в воскрешение в телах. Потому у них не было никаких особенных обрядов захоронения. Если обстоятельства позволяли, то умерших в ереси хоронили, как и всех остальных, на обычных приходских кладбищах. Если же местный священник запрещал это делать, то катарская община имела собственное кладбище, как например в Лордате или Пюилоране. Во времена подполья умерших хоронили где придется: в саду, на берегу реки итд. Инквизиция часто эксгумировала эти трупы и сжигала их.
Младший Сын и Старший Сын Впервые эти иерархические церковные степени упоминаются в Лангедоке в 1178 г. Старший Сын и Младший Сын - это коадъюторы катарских епископов. Они сразу же получали епископское посвящение и их функции можно было приравнять к епископским. Потому после смерти епископа, Старший Сын становился епископом, а Младший Сын - Старшим Сыном. Тогда выбирали и посвящали нового Младшего Сына. Далее иерархия катаров состоялда из диаконов, и самой нижней ступенью были Старшие и Приориссы (руководители и руководительницы мужских и женских религиозных домов).
Молитвы Как и все христианские монахи, Добрые Люди всю жизнь произносили молитвы в определенные часы. Прежде всего, это Benedicite (Benedicite, parcite nobis, Благослови и помилуй нас), Adoremus (Adoremus Patrem et Filium et Spiritum Sanctum,Amen - Поклонимся Отцу и Сыну и Святому Духу, Аминь). Далее, это фундаментальная молитва катаров, «Отче Наш », которой Христос научил Апостолов . Простые верующие, ещё не освобожденные от зла, не обращались к Богу непосредственно с этой молитвой, но их просьба о благословении во время ритуала Melhorament и была молитвой. Но Как следует из «Реестра Инквизиции Жака Фурнье», (том 2, стр. 461-462, в XIV веке верующие произносили следующую молитву: «Отче Святый, Боже правый добрых духом, Ты, который никогда не лгал, не обманывал, не сомневался и не ошибался. Из страха смерти, которая всех нас ожидает, мы просим Тебя, не дай нам умереть в мире чужом Богу, ибо мы не от мира, и мир не для нас, но дай нам узнать то, что Ты знаешь, и полюбить то, что Ты любишь…»
Облеченные в Святой Дух Термины hereticus indutus, heretica induta («облеченный еретик»)очень часто используются в архивах Инквизиции для обозначения катарских монахов, чтобы отличить их от простых верующих. Возможно, это происходит от того, что до преследований Добрые Люди носили специальные черные или темные монашеские одежды. Но верующие часто называли Добрых Людей «облеченными в Святой Дух».
Обеты Три монашеских обета, которые произносили катары, это: целомудрие , бедность и послушание. Это общие для всего христианства обеты, основанные на предписаниях Евангелия. Также к этому добавлялись обеты общинной жизни и воздержания, обет соблюдать монастырские часы («литургические часы»). Практически вступление в христианскую жизнь означало для катаров полное посвящение, самоотдачу.
Пентаграмма Геометрическая фигура в виде пятиугольника, в которую вписана пятиконечная звезда. Эзотерики ХХ столетия безосновательно ищут в ней катарскую символику.
Пчела Катары носили на пряжках и пуговицах гравировку пчелы, для Совершенных она символизировала тайну оплодотворения без физического контакта.
Рыба Как и все христианские монахи, которые жили в постах и воздержании, катары воздерживались от мяса, но не по определенным дням, а вообще, за исключением рыбы.
Семья (брак) Как и многие еретики XI-XII столетий, катары отвергали таинство брака , очень поздно введенного Церковью Римской (11 век), не желая смешивать божественное таинство и чисто материальный и социальный акт. Зачатие и рождение само по себе, без таинства, согласно христианской терминологии, является «телесным грехом». Катары говорили, что «познать телесно свою жену, как и другую женщину - это один и тот же грех». Они также считали, что эмбрионы в утробе - это просто тела, то есть сформированные дьяволом телесные оболочки, не имеющие ещё души. С другой стороны, рождение детей, согласно системе катаризма, было необходимым для «пробуждения мира», для того, чтобы души могли после смерти вселяться в другие тела и обретать новый шанс на спасение, пока все падшие ангелы не смогут наконец вернуться в Царствие. Некоторые доминиканские инквизиторы распространяли слухи, что катары могли бы привести человечество к исчезновению, запрещая рождение детей. Однако только катарские монахи и монахини принимали обеты абсолютного целомудрия , а их верующие женились (в том числе заключали браки в католической церкви) и заводили семьи. Они имели многочисленных детей, как и их католические соседи. Известны случаи, когда браки заключались между катарскими верующими через посредничество Доброго Человека, но без всякого таинства, только в качестве взаимного соглашения. Катары не считали девственность большой ценностью. Большинство из них становились монахами и монахинями в зрелом возрасте, после того, как они уже завели семью и поставили детей на ноги. Вступая в религиозную жизнь, часто одновременно, они освобождали друг друга от супружеских обетов. Истинным браком, о котором упоминается в Евангелии, («что Господь соединил, человек пусть не разлучает»), для катаров был духовный брак души и Духа, происходящий во время Consolament, воссоединяющий небесное творение, разорванное после падения.
Смерть С точки зрения катаров, физическая смерть тела была признаком дьявольской природы этого мира. В целом это вписывалось в их идею о преходящем характере всего видимого и служило доказательством того, что злой творец неспособен создать ничто «стабильное и непреходящее». Смерть была злом и происходила от зла, Бог ни в коем случае не может наказывать ею или посылать на смерть. Именно поэтому катары отвергали учение об искупительной жертве Христа. Добрые Люди осуждали как убийства, так и смертную казнь. Наоборот, они давали обеты мужественно встретить мученическую смерть по примеру Христа и
Бог не творит новые души для малых детей. У него было бы слишком много работы. Душа умершего переходит из тела в тело, пока не попадет в руки добрых людей [совершенных катаров].
Жительница Тулузы (Из протоколов судов инквизиции 1273 г)
Здравствуйте. Здесь я хотела бы представить выдержку из книги Элизабет Клэр Профет "Реинкарнация. Утерянное звено в христианстве." об учении катаров, которые в темные средние века хранили чистоту в своей жизни и в своих сердцах и, будучи христианами, знали о реинкарнации. Элизабет Профет в этой книге в целом прослеживает развитие идеи реинкарнации с древних времен до Иисуса, ранних христиан, Церковных Соборов и преследований так называемых еретиков. Используя последние исследования и свидетельства, она убедительно доказывает: Иисус, опираясь на знание о перевоплощениях души, учил, что наша судьба - вечная жизнь в единении с Богом.
"Я представляю себе Землю классной комнатой. Каждому из нас надлежит выучить свои уроки, такие как уживчивость, любовь, прощение. Требования выпускного экзамена — достижение союза с Богом, тем самым Богом, который живет в каждом сердце. В этой книге мы намерены разобраться, как сдать выпускной экзамен и перейти в следующий класс, а также — почему мы нуждаемся в реинкарнации, если не сделали этого в данной жизни.
Реинкарнация — это благоприятная возможность не только учиться на своих ошибках на Земле, но и стремиться к Богу. Она представляет собой ключ к пониманию путей нашей души.
Я приглашаю вас отправиться со мною в путешествие и узнать, что некогда реинкарнация не противоречила таким христианским концепциям, как крещение, воскресение и Царство Божье. Мы увидим также, как отцы церкви изъяли идею реинкарнации из христианской теологии и почему знание о реинкарнации могло бы разрешить многие проблемы, досаждающие христианству сегодня
Я предлагаю это исследование в дополнение к вашему чтению и общению с Богом. Я уверена, что, стремясь найти главное в послании Иисуса, вы найдете ответы в себе — ибо они уже записаны в вашем собственном сердце".
Итак, катарская цивилизация...
Катары, альбигойцы, вальденсы. Инквизиция. XIII век
XII век породил в Европе множество различных религиозно-политических учений, названных ересями. Крупнейшими из них считали учения, появившиеся и развившиеся в орденах катаров, альбигойцев и вальденсов. Их деятельность вскоре стала носить настолько массовый характер, что официальная церковь провозгласила против них крестовый поход и создала инквизицию.
Родоначальниками катаров называли павликиан и богомилов. С конца Х века орден-секта катаров распространился почти по всей Южной и Западной Европе.
Катары отрицали всю иерархию Римско-католической церкви, таинства, службы, культы святых, иконы, кресты, святую воду, индульгенции. Они осуждали десятипроцентный церковный налог, церковные вклады. Ритуалы катаров были суровы и просты. Они считали, что существуют бог добрый и бог злой, делились на «совершенных» и верующих.
Катары признавали один главный обряд-таинство, заменявший у них крещение и причащение. Принимавший этот обряд вступал в высший разряд «perfecti» – «совершенных», «друзей Божьих». Священник и другие «совершенные» возлагали на вступающего руки и призывали сойти на него дух-утешитель. Только принятие такого обряда считалось спасением. Спастись мог только «совершенный», которых были сотни, а простые верующие – катары, которых было десятки тысяч, спастись не могли. Возможно, из-за этой догмы крестовый поход против катаров достиг своей цели, а сам орден не стал массовым.
«Совершенный» катар был совершенным аскетом. Целью существования катара было достижение высшего духовного совершенства, к которому вел тяжелый путь. Катары считали преступлением уже только преступное намерение. К «ржавчине души» вело всякое обладание земными благами.
Катары никогда не клялись и не божились. Один из захваченных инквизицией катаров заявил, что никогда бы не поклялся, даже если бы эта клятва могла народы всего мира сделать катарами. Они отрицали воскрешение, делая исключение только для грешников, которые будут наказаны переселением в тела животных. Поэтому катары не ели мяса, даже яиц, молока, сыра. Они ели хлеб, рыбу, плоды, овощи. «Совершенные» не принимали институт брака, отрекались от родственных уз. Странствующие проповедники-катары в черной одежде с сумкой, в которой лежал перевод библии на народный, романский язык, шли от города до города, от селения к селению. Один из обвиненных в катарской ереси оправдался тем, что заявил в инквизиторском трибунале, что он ест мясо, клянется и лжет.
Вместо крещения водой катары проводили «крещение духом» – «consolamentum». Получивший это крещение, получал имя «Perfectus» – «совершенный». Они считали себя непосредственными преемниками апостолов, проповедниками новой веры.
«Совершенные» узнавали друг друга в странствиях по особым жестам и символическим фразам. Их дома также имели отличительные знаки. Их появление в городе или селении превращалось в праздник. На трапезе им мог прислуживать барон, владелец замка и города. Их проповеди слушали с жадностью. Внешность, походка, манера говорить «совершенных» были величественными. Их благословения считались милостью неба.
Простых катаров называли credentes – верующими, и anditores – слушающими. Они могли воевать, жениться. Однако обряд посвящения они могли пройти только перед смертью – если рядом были «совершенные».
Катары могли молиться везде – в поле, в селении, в замке, в лесу. Там, где катары являлись фактически и светской властью, у них были молитвенные дома, в которых не было ничего роскошного. Внутри стояли скамьи и простой деревянный стол, покрытый белой скатертью. На столе лежал Новый Завет, открытый на первой главе Евангелия Иоанна. Колоколов и кафедры для проповедника не было, также как статуй, икон, крестов.
Во главе нескольких катарских общин стоял епископ, при котором находились три духовных лица – старший сын, младший сын и дьякон. Епископ перед смертью сам посвящал в преемники старшего сына. Дьякониссой могла стать женщина.
Молитвенным собранием руководил старший «совершенный». Они открывались чтением Нового Завета, катары-проповедники толковали тексты. После проповеди катары брались за руки, падали на колени, делали три земных поклона и говорили проповедникам:
«Благословите нас, молите бога за нас грешных, чтобы он сделал из нас истинных христиан и даровал нам блаженную кончину». Священники отвечали: «Бог да благословит вас, да сделает из вас истинных христиан и да сподобит Вас блаженной кончиной». После этого все пели молитвы. Все верующие считали «совершенных» стоящими ближе к Богу, целью было получить у них благословение.
Инквизиция никогда не щадила катаров, прошедших обряд «consolamentum» – крещения и причастия. К нему готовились трехдневным постом и молитвой. В длинном зале зажигали множество огней, символизирующих огонь крещения. В центре стоял стол с белой скатертью и Евангелием. «Совершенные» омывали руки и становились в круг по старшинству, соблюдая глубокое молчание. Недалеко от окна стоял посвящаемый, которого наставлял священник: «Брат, твердо ли ты решился принять нашу веру?» Неофит подтверждал, становился на колени и произносил клятву:
«Я обещаю служить Богу и Его Евангелию; не убивать животных, не есть мяса, молока; ничего не делать без молитвы. А если попаду в руки неприятеля, то никакие угрозы не вынудят меня отречься от своей веры. Благословите меня».
Все собравшиеся становились на колени, священник давал посвящаемому целовать Евангелие и возлагал на него руки, остальные «совершенные» делали то же самое. Священник призывал к посвящаемому Дух Божий, потом все читали молитву, потом семнадцать глав из Евангелия от Иоанна. Новому посвященному давали шерстяную или льняную нитку, обнимали его. Собрание заканчивалось. Посвященный должен был выдержать сорокадневный пост, на хлебе и воде.
Катары посылали своих представителей в университеты Европы, богословские школы, для того, чтобы «познакомиться с силами и наукой враждебной церкви и приобрести оружие против нее».
Главного епископа у катаров не было, все епископы соединялись друг с другом «узами братства и дружбы».
В Южной Франции катары были известны под именем альбигойцев, это слово впервые упоминается в исторических документах в 1181 году. Город Альби входил в состав обширного Лангедока с главным городом Тулузой и большими, цветущими городами Монпелье, Ним, Каркассон, Безье, Норбонна. Учение катаров здесь достигло такого распространения, что в 1119 и 1132 годах римские папы Каликст II и Иннокентий II назвали альбигойцев «тулузскими еретиками». Катары в 1167 году провели торжественный съезд своего духовенства, прибывшего в Тулузу из разных стран, из Фландрии, из Кельна, Лондона. За два года до этого состоялся публичный диспут катаров и епископов католической церкви, после чего катаров опять объявили еретиками. После этого на Тулузском съезде катары и заявили о своем полном отделении от Римской церкви и создании собственной организации. Еще один съезд катаров был проведен в 1176 году близ Альби.
Причиной широкого распространения учения катаров стали разочарование, вызванное крахом Крестовых походов, а также негодование народа, вызываемое декларированием смирения и нестяжания государственной церкви и реальная жизнь, богатство и пороки многих представителей духовенства. Культ бедности сталкивался с культом богатства. Чем больше официальная церковь обосновывала свое верховенство религиозными доводами, тем больше простые люди приходили в ужас от контраста между проповедями и делами духовенства.
Движение катаров почти поколебало официальную церковь, сильно встревожило ее. Римский папа Иннокентий III считал, что эти еретики повинны в измене богу и заслуживают смерти.
На альбигойцев не действовали ни папские увещевания, ни папские буллы. Папа послал в Южную Францию особых комиссаров и уполномоченных, для проведения диспутов, для проповедования догматов католической церкви. Комиссары подчинялись Особой комиссии, ставшей прообразом инквизиции. В 1203 году в Лангедок были отправлены папские уполномоченные Пьер де Кастельно и Рауль из Сито. Они «успешно проповедовали против альбигойской ереси». 4 июня 1204 года папа назначил их своими легатами, объявив, что поручает им всю работу по искоренению ереси и обращению еретиков в истинную веру, отлучению от церкви нераскаявшихся. Первые инквизиторы могли выдавать неподчинявшихся светской власти, отбирать их имущество и подвергать изгнанию.
Пьер Кастельно был убит в Лангедоке. Владетельного графа Раймунда Тулузского тут же объявили в потворстве еретикам и обвинили в том, что в течение многих лет он грабил католическую церковь, исповедуя к тому же «еретические бредни». Несмотря на то, что Раймунд Тулузский покаялся и перенес позорное бичевание, папа Иннокентий III объявил крестовый поход на города Южной Франции, обещая за участие в нем множество земных и небесных благ. Начались Альбигойские войны, продолжавшиеся двадцать лет.
Для участия в походе на богатейший Лангедок под знамена папы собралось много сеньоров со всей Европы. В 1209 году папское войско атаковало большой город Безье. Новые крестоносцы перерезали десятки тысяч человек. Предводитель войска Симон Монфор, граф Лейчестерский, спросил у папских легатов Арнольда, Сито и Мило, как отличить от еретиков остальных жителей города. Ответ уполномоченных Иннокентия III остался в истории: «Убивайте всех, Господь отличит своих и защитит». Только в безьерской церкви Магдалины были убиты семь тысяч горожан, мужчин, стариков, женщин и детей. Монах-цистерианец Цезарий Гейстербахский писал в начале ХIII века «О ереси альбигойской»:
«Альбигойцы признают два начала: Бога доброго и Бога злого, который, говорят они, сотворил все тела, как добрый Бог – души. Воскресение тел они отрицают, смеются над всеми благодеяниями, оказываемые мертвым живыми, говоря о заупокойных службах. Ходить в церковь или молиться там они считают совершенно бесполезным, крещение отвергают. Они говорят, что ожидают славы для духа.
В год Господа нашего 1210 проповедовали по всей Германии и Франции принять крест против альбигойцев и в следующем году поднялись против них в Германии – Леопольд, герцог Австрийский, Энгельберт, архиепископ Кельнский, брат его Адольф, граф Бергский, Вильгельм, граф Юлихский и многие другие, разного чина и звания. То же произошло во Франции, в Нормандии и Пуату. Главой и проповедником этого похода был Арнольд, аббат в Сито, в последствии архиепископ Норбонны.
И пришли они к большому городу под названием Безье, в котором, говорят, было более ста тысяч человек, и стали его осаждать. У них на глазах еретики осквернили книгу святого Евангелия и сбросили ее вниз христианам, стреляя и крича: «Вот ваш закон, несчастные». Некоторые воины, разгоревшись ревностью к вере, точно львы подставили лестницы и бесстрашно вошли на стены, и, когда еретики, отступили, они открыли ворота, и город был взят.
Узнав из возгласов, что там вместе с еретиками находятся и правильно верующие, они сказали аббату: «Что нам делать, отче? Не успеем мы различить добрых от злых». И аббат, и также другие, боясь, что те еретики из страха смерти не прикинулись правильно верующими, а потом опять не вернулись к своему суеверию, сказал, как говорят: «Бейте их всех, ибо Господь познает своих».
И перебито было великое множество».
Двадцать лет в Лангедоке шла резня. Богатейшие города и селения были уничтожены. Из городов выгоняли всех жителей, оставшихся в живых, их земля и имущество передавались крестоносцам. В 1213 году, после битвы при Мюре, в которой погибли многие руководители альбигойцев, папа подарил завоеванные земли графу Симону Манфору Лейчестерскому. В 1 218 году он был убит при осаде Тулузы. Двадцать лет альбигойцы не сдавались. Когда прекрасный Лангедок был полностью разорен, а с обоих сторон погибли десятки, а может быть и сотни тысяч виновных и невиновных людей, в 1229 году был заключен мир. Граф Раймунд VII Тулузский за большую контрибуцию был освобожден от церковного отлучения. Он потерял Нарбонну и некоторые другие земли. Население возвращали в лоно католической церкви посредством самых тяжелых эпитимий. Упорствующих в своей вере альбигойцев сжигали на кострах. Многие катары бежали в другие страны. До наших дней дошла «Запись расходов по сожжению четырех еретиков в Каркассоне:
Дрова – 55су, 6 денье.
Хворост – 21су, 3 денье.
Солома – 2су, 6 денье.
4 столба – 10су, 9 денье.
Веревки – 4су, 7 денье.
Палачу – по 20су с головы, всего 80су.
Итого: 8 ливров, 14су, 7денье».
Весь XIII и XIV век инквизиция активно действовала в Лангедоке.
В 1176 году лионский купец Пьер Вальдо заказал для себя перевод с латинского языка на народный части Библии. Изучив переведенное, он решил раздать свои деньги и имущество нищим – «чтобы добровольной бедностью восстановить первоначальную чистоту христианских нравов. Он создал в Лионе общину и начал проповедовать Евангелие. Члены общины вели строго добродетельный образ жизни, считая своим идеалом идеал бедности. Его община отвергала собственность и стала называться «paupers de Lugduno» – «Леонские бедняки».
В 1170 году Пьер Вальдо провозгласил свой крестовый поход во «во имя соблюдения Христова закона». Вальденсы заявили, что следует повиноваться только хорошим священникам – таким, которые ведут апостольскую жизнь. Только такие безупречные священники имеют право отпускать грехи. Подобное учение наносило сильнейший удар всему тогдашнему устройству церкви.
Папы, поначалу поддерживающие движение, за слишком резкую критику безнравственного образа жизни духовенства, осудили последователей Пьера Вальдо на Веронском соборе 1184 года. Вальденсы объявили, что каждый праведно живущий человек сам вправе проповедовать и истолковывать Священное Писание. Они назначали своих священников, не общались с католическим духовенством. Вальденцы стали отрицать право католической церкви иметь собственность, собирать налоги, отвергали таинство.
Вальденсы распространились по всей Ламбардии, затем в Чехии, попали под крестовый поход альбигойцев и ушли в Пьемонт. Папа Иннокентий III отлучил их от церкви на Латеранском соборе 1215 года. Тем не менее вальденсы расселились по всей Франции, Италии, Богемии, по всем склонам Альп, в Пьемонте и Савое.
Несмотря на свои евангелические правила, чистоту нравов, саму жизнь, основанную на Нагорной проповеди, вальденсов жестоко преследовали половину тысячелетия, вплоть до XVIII века. Реформация XVI века в первую очередь победила в тех областях, где жили вальденсы. В 1545 году в провинции Дофине было убито до четырех тысяч вальденсов, В 1685 году французские и итальянские войска убили три тысячи вальденсов. Их детей разместили по католическим монастырям. Официальную религиозную свободу и гражданские права последователи Пьера Вальдо получили только в 1848 году, в Италии, благодаря серьезному давлению протестантских государств. К концу XIX века их было несколько десятков тысяч, во Флоренции работала вальденская теологическая школа. Некоторые общины вальденсов существовали и в XX веке, в Швейцарии. Несколько веков движение вальденсов, куда с охотой шли и крестьяне, и ремесленники, давало работу инквизиции.
Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги 100 великих тайн Второй мировой автора Непомнящий Николай НиколаевичОТТО РАН И КАТАРЫ: МЕЖДУ ТАЙНОЙ И МОШЕННИЧЕСТВОМ Нашли ли нацисты чашу Грааля? Этот весьма каверзный и, казалось бы, праздный вопрос, однако, всерьёз и весьма живо интересовал немецкий народ во время гитлеровского господства. Загадочная археологическая экспедиция,
Из книги Полная история тайных обществ и сект мира автора Спаров Виктор1. Святая Матерь Божья, катары и Богородичный центр Святая Любовь Культ Божьей Матери был популярен во все христианские времена. Вполне естественно, что он пользуется не меньшей популярностью и сегодня. Матерь Божья всегда считалась христианами заступницей, для нее
Из книги История инквизиции. том 1 автора Ли Генри Чарльз Из книги Нашествие. Суровые законы автора Максимов Альберт ВасильевичАЛЬБИГОЙЦЫ Катары или по-другому альбигойцы - так называли сторонников религиозного движения (можно сказать, ереси), распространенного в Западной Европе в X–XIV веках. В основе их религии лежала вера в Бога любви, в то, что Бог сотворил не материальный мир, а только добрые
Из книги Возникновение и устройство инквизиции автора Ли Генри Чарльз Из книги Альбигойская драма и судьбы Франции автора Мадоль ЖакГлава II КАТАРЫ АНТИКЛЕРИКАЛЬНОСТЬ И КАТАРИЗМ Мы уже говорили, хотя и не слишком акцентировали это, что вся история средних веков, особенно с XI в., полна народными движениями, носившими сначала религиозный характер. Крестьяне и беднота следуют за Таншельмом, Эоном
автора Мейкок А. Л.Вальденсы Прежде чем говорить о ереси альбигойцев, которая, без сомнения, была наиважнейшей из всех ересей и с которой мы начнем их серьезное рассмотрение, следует сказать несколько слов о вальденсах. Секта была основана в 1170 году неким Пьером Вальдо, богатым, но
Из книги История инквизиции автора Мейкок А. Л.Вальденсы Около начала XIII века вальденсы действовали во многих европейских государствах. По сердитому законодательству Педро они под страхом смертной казни были изгнаны из Арагона; из восьмидесяти еретиков, сожженных в Страсбурге в 1212 году, большинство были
Из книги Подлинная история тамплиеров автора Ньюман ШаранГлава четырнадцатая. Катары У катаров и тамплиеров определенно есть общие черты. Те и другие соблюдали обет безбрачия, тех и других обвиняли в ереси, тех и других подозревали в сокрытии сокровищ и, наконец, те и другие были уничтожены. Еще одна общая черта: и катары, и
автора7.1. Кто такие катары? История катаров - одна из захватывающих и загадочных страниц средневековья. Вкратце напомним, как она преподносится нам в скалигеровской версии, начиная с XVII века. Мы опираемся на публикации французских историков: , , , , , , ,
Из книги Книга 2. Освоение Америки Русью-Ордой [Библейская Русь. Начало американских цивилизаций. Библейский Ной и средневековый Колумб. Мятеж Реформации. Ветх автора Носовский Глеб Владимирович Из книги Хранители Грааля. Катары и альбигойцы автора Майорова Елена Ивановна Из книги Террористы автора Андреев Александр РадьевичАльбигойцы и тайные политические ордена По всему знаменитому английскому Шервудскому лесу гремела любимая песня народного героя Робин Гуда: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был там дворянин?» С древнейших времен во многих странах существовали тайные политические
Из книги Тамплиеры и ассассины: Стражи небесных тайн автора Вассерман ДжеймсГлава XIX Катары и Альбигойский поход Разочарование Иннокентия III действиями крестоносцев и его недовольство разграблением Константинополя могли способствовать тому, с каким пылом он стал преследовать следующую крупную военную цель - Альбигойский поход. Кровавая
Из книги Хранители Грааля автора Майорова Елена ИвановнаКАТАРЫ В ОКСИТАНИИ Что же представляла собой та скверна, та ужасная ересь, против которой ополчалось духовенство и рыцарство всей Европы, откуда она взялась, чем была опасна для душ простецов?Термин «катары» появился в первой половине XI в. Вскоре слово «катар» стало
Из книги Врать или не врать? – II автора Швецов Михаил Валентинович«В Нарбонне, где некогда расцветала вера, враг веры начал сеять плевелы: народ утратил разум, осквернил таинства Христа, соль и мудрость Господню; обезумев, он отвернулся от истинной мудрости и побрел неведомо куда извилистыми и путаными путями заблуждения, по затерянным тропам, свернув с прямого пути».
Так начинается «Альбигойская история» монаха-цистерцианца Пьера де Во-де-Серне (ок. 1193 — после 1218). Этот автор, перед тем как начать повествование о крестовом походе против катарской ереси, с 1209 года заливавшем кровью Лангедок, дает краткие сведения об учении катаров: «вера», некогда расцветавшая — это христианская католическая вера, с давних времен укоренившаяся на юге Франции; «заблуждение», в которое впал народ Окситании — не что иное, как учение катаров, почти тайно появившееся на этой земле вскоре после начала тысячелетия (первые катарские еретики были сожжены на кострах Орлеана и Тулузы в 1022 году: речь идет о десяти канониках).
Глубочайшим заблуждением, главной ошибкой этих еретиков, по мнению римско-католической Церкви, была их дуалистическая теология, которую Пьер де Во-де-Серне излагает следующим образом:
«Еретики верили в существование двух создателей: один был невидимым, они называли его «добрым» Богом, другой был видимым, и они называли его «злым» Богом. Доброму Богу они приписывали Новый Завет, злому Богу — Ветхий Завет, который они, таким образом, полностью отвергали, за исключением нескольких отрывков, вставленных в Новый Завет, считая их по этой причине достойными быть сохраненными в памяти. Они считали «лжецом» [неизвестного] автора Ветхого Завета: в самом деле, он сказал о наших прародителях Адаме и Еве, что в день, когда они вкусят плод с дерева познания добра и зла, умрут смертью, однако же, вкусив плода, они не умерли, как он предсказал. Эти еретики говорили на своих тайных собраниях, что Христос, который родился в земном и видимом Вифлееме и умер распятым, был дурной Христос и что Мария Магдалина была его сожительницей: она и была той женщиной, взятой в прелюбодеянии, о которой говорится в Евангелиях. На самом деле, говорили они, добрый Христос никогда не ел и не пил и не облекался настоящей плотью: он явился в мир лишь чисто духовным образом, воплотившись в теле святого Павла. Вот потому мы и написали «в земном и видимом Вифлееме», ведь еретики представляли себе иную землю, новую и невидимую, где, по мнению некоторых из них, добрый Христос был рожден и распят. Еще они говорили, что у доброго Бога были две жены, Оолла и Оолиба, родившие ему сыновей и дочерей. Другие еретики говорили, что творец один, но что у него было два сына, Христос и Дьявол [...]»
Катарские проповедники и впрямь утверждали, что Богов было два, добрый Бог, чистый, непорочный дух, и Бог Зла, которого они именовали Сатаной или Люцифером, создавший материальный и нечистый мир — солнце, звезды, землю, тела животных и людей; последний, соответственно, оказывался миром сатанинским, и из этого следовало, что добрый Бог не был всемогущим. Что касается людей (потомков Адама и Евы), они также были двойственными созданиями: как существа из плоти, а значит, материальные, они были творениями Дьявола, и каждый из них заключал в себе душу, которую добрый Бог вдохнул в каждое тело и которую он жаждал освободить, чтобы вернуть ее в небесный мир. К несчастью, Бог не мог сам освободить эти души, поскольку пропасть отделяет божественный дух от материального мира, сотворенного Люцифером: и тогда для того, чтобы сделать это, он создал Посредника, Иисуса, который был одновременно Его сыном, Его образом и прекраснейшим, самым безупречным и совершенным из ангелов (катарские богословы не признавали догмата Святой Троицы). Иисус сошел в нечистый мир материи, чтобы освободить человеческие души из их плотской темницы и вернуть в небесную чистоту; но Сатана узнал в нем Божьего Вестника и захотел его погубить, оттого и случились Страсти Христовы и распятие божественного Посланца. Тем не менее неплотское тело Христа не может на самом деле ни страдать, ни умереть; указав Апостолам путь к спасению, Христос вновь поднялся на небеса, оставив на земле Свою Церковь, душа которой — Дух Святой. Однако Властелин Зла, оставшийся в земном мире, продолжает увлекать людей на путь заблуждения: он разрушил чистую Христову Церковь и подменил ее ложной Церковью, римской, которую назвали «Христианской», но в действительности это Церковь Дьявола, и то, чему она учит, противоположно тому, чему учил Иисус: она и есть нечистый зверь Откровения, вавилонская блудница, тогда как истинная и чистая Церковь, владеющая Святым Духом, — это катарская Церковь.
Из этих теологических построений следует: 1) что таинства римско-католической церкви (крещение, причастие, брак, соборование) — всего лишь материальные обряды, ловушки Сатаны; рода крещения — всего лишь вода, облатка не может быть телом Христа, это только тесто, кресту не должно поклоняться, его следует ненавидеть и проклинать, поскольку он был орудием унижения и мучений Иисуса; 2) что Пресвятая Дева не могла быть матерью Иисуса, поскольку у него никогда не было тела, он, подобно доброму Богу, является чистым духом; 3) что человеческая душа до тех пор, пока в нее не снизошел Святой Дух, пока она не получила спасительного озарения, делающего человека чистым, остается под властью сатаны и переходит в каждой следующей жизни в одно из множества тел людей или животных (учение о переселении душ); 4) что тому, кто сделался чистым, смерть несет окончательное избавление души и что в конце времен, когда все души будут освобождены из Мрака тел, Свет вновь будет полностью отделен и спасен от нестерпимого господства материи. И тогда материальный мир исчезнет, солнце и звезды погаснут и огонь поглотит души демонов: продолжаться будет лишь вечная жизнь в Боге.
На это путаное учение о предназначении души накладывался свод молитв и обрядов, известных нам под названием «Катарского требника», два варианта которого, относящиеся к XIII веку, один на латыни, другой на окситанском языке, избежали общей участи — почти полного уничтожения всего, что было связано с учением катаров, после так называемого альбигойского крестового похода. Катарская Церковь, учившая, что брак есть проституция, отрицавшая воскрешение плоти и сочинявшая, по словам Пьера де Во-де-Серне, «странные небылицы», в действительности была устроена по образцу римско-католической Церкви.
Она включала в себя две категории верных: священников, которые вели аскетическую, полную лишений жизнь, и мирян, которые жили обычной жизнью, могли вступать в брак, заниматься каким-нибудь ремеслом, иметь личное имущество и только стараться при этом жить праведно и честно. Первых называли совершенными: неизменно одетые в черное, они соблюдали безупречное целомудрие; отказывались от мяса, поскольку в теле любого животного могла быть заключена человеческая душа; яиц, молока, масла и сыра они тоже не ели, потому что все эти продукты получались от сексуальной деятельности живых существ, однако употреблять в пищу рыбу им было позволено. Такой образ жизни, если вести его без малейших отклонений, обеспечивал совершенным освобождение души после смерти тела. Вторых называли верующими: они не стремились подражать жизни совершенных, но надеялись, что вера последних принесет спасение и им, и должны были вести жизнь честную, праведную и достойную уважения.
Совершенные, как мужчины, так и женщины, которых можно было бы назвать воинствующими катарами, чаще всего были странствующими отшельниками, они шли от деревни к деревне, от замка к замку и повсюду вызывали уважение благодаря своей строгости, доброте, нравственной силе и аскетизму, поскольку неукоснительно соблюдали посты; их бледные, изможденные лица, их худоба, должно быть, нисколько не уступавшая истощенности почтенных гуру и восточных факиров, ласковый тихий голос, которым они проповедовали, — во всем этом народ видел доказательства их святости, называя их добрыми людьми.
Те катары, что оставались в городах, вели не менее монашеский образ жизни в общинах, селясь в особых домах, которые враждебно настроенная часть населения называла «домами еретиков»; в таком доме неизменно имелся большой суровый зал с голыми стенами, чаще всего выбеленными известью, где верные собирались для молитвы. Всю обстановку этого зала составляли накрытый белой скатертью деревянный стол, на котором лежало Евангелие, и другой стол, поменьше, на котором стояли кувшин и лохань для омовения рук; в зале постоянно горели белые свечи, пламя которых символизировало пламя Святого Духа.
Мы не знаем, как была устроена катарская Церковь, чье зарождение и развитие происходили в основном подпольно. Один только Пьер де Во-де-Серне дает нам немногие и краткие сведения об этом в начале своей «Альбигойской истории»:
«У еретиков совершенных были представители власти, которых они называли «диаконами» и «епископами»; их просили о наложении рук, дабы всякий умирающий полагал возможным спасение своей души, но в действительности, если они налагали руки на умирающего, какая бы вина на нем ни была, если только он в состоянии был прочитать Pater Noster , они считали его спасенным и, пользуясь их выражением, «утешенным» до такой степени, что без всякой епитимьи, без какого-либо другого искупления своих грехов он поднимался на небеса. По этому поводу нам довелось слышать следующую забавную историю: некий верующий, лежа на смертном одре, получил от своего учителя consolamentum посредством наложения рук, но не смог прочитать Pater Noster и испустил дух. Его утешитель не знал, что и сказать: покойный был спасен, поскольку принял наложение рук, но он был проклят, поскольку не смог прочитать молитву! [...] И тогда еретики отправились за советом к рыцарю по имени Бертран де Сессак и спросили у него, как им следует рассуждать. Рыцарь дал им такой совет и ответ: «Про этого человека мы будем говорить и утверждать, что он спасен. Что касается всех прочих, если они в последнюю минуту не прочитают Pater Noster, мы будем считать их проклятыми».
Этот отрывок прекрасно свидетельствует о духе времени. Люди той эпохи и тех поколений, что пришли следом за ними, были одержимы мыслью о спасении своей души после смерти, и у христиан римско-католической Церкви было средство, помогающее справиться с этой неотвязной тревогой: смерть на кресте Иисуса, Сына человеческого, и его воскрешение как Сына Божия вскоре после казни были для них залогом вечной жизни и спасения при условии, что эти христиане при жизни были приобщены к таинствам Церкви (в особенности и прежде всего получили крещение — необходимое и достаточное условие для того, чтобы человек был принят в лоно Церкви, — а затем, перед смертью, отпущение грехов и соборование).
Со своей стороны, катары, утверждавшие, что католическая теогония неверна и что ее следует заменить дуалистической теогонией, той самой, которую мы вкратце изложили выше, считали обряды и таинства римско-католической Церкви лишенными всякого смысла и ценности. Иными словами, христиане, которых мы будем называть традиционными, — для того, чтобы отличить их от катаров, которые также именовали себя «христианами», — были глубоко убеждены в истинности поговорки «Вне Церкви (подразумевалось — римско-католической) нет спасения» и видели в адептах новой Церкви (катарской) приспешников Сатаны, обреченных вечно гореть в аду. И наоборот — эти последние были не менее глубоко убеждены, что их долг в земной жизни состоит в том, чтобы возвращать заблудшие души христиан-католиков на правильный путь чистой религии истинного Бога — доброго Бога, — с которого их заставил свернуть Властитель Зла.
Если не считать этих скудных сведений о еретическом учении катаров и об упоминавшемся выше «Требнике», нескольких намеков на их догмы, содержащихся в уставах соборов, созванных для того, чтобы бороться с этой ересью между 1179 (III — вселенский — собор в Латеране) и 1246 годами (собор в Безье), а также нескольких приговоров, вынесенных катарам судом Инквизиции, мы почти ничего не знаем об учении катаров. Зато из текстов уже упоминавшихся летописцев и из намеков, сделанных двумя окситанскими поэтами, сочинившими «Песнь о крестовом походе против альбигойцев», следует, что ересь распространилась по всему югу Франции, от Гаронны до Средиземного моря. Эти авторы единодушно называют Тулузу очагом ереси; так, Пьер де Во-де-Серне в первых же строках своей «Альбигойской истории» заявляет:
«[...] Тулуза, главный источник яда ереси, отравлявшего народы и отвращавшего их от познания Христа, Его истинного сияния и божественного света. Горький корень так вырос и так глубоко проник в сердца людей, что вырвать его стало крайне трудно: жителям Тулузы не раз предлагали отречься от ереси и изгнать еретиков, но лишь немногих удалось уговорить — настолько они, отказавшись от жизни, привязались к смерти, настолько они были затронуты и заражены скверной животной мудростью, приземленной, дьявольской, не допускающей той мудрости свыше, которая призывает к добру и любит добро».
Нелишним будет уточнить здесь, что Пьер де Во-де-Серне писал эти строки между 1213 и 1218 годами (крайние даты), два столетия спустя после того, как в Лангедоке появилась катарская ересь; стало быть, мы можем заключить из его слов, что к этому времени катарское учение широко распространилось в тех краях.
Приблизительно за полвека до того, как прозвучал призыв к крестовому походу против альбигойцев, в 1145 году, сам святой Бернар, посланный настоятелем Клерво с миссией на тулузскую землю, такими безрадостными словами описывал состояние религии в этой местности:
«Церкви стоят без прихожан, прихожане обходятся без священников, священники утратили честь. Здесь остались лишь христиане без Христа. Таинства втоптаны в грязь, больших праздников уже не отмечают. Люди умирают в грехе, без покаяния. Детей лишают жизни во Христе, отказывая им в благодати крещения». (Послания, CCXLI)
Примерно тогда же, когда Пьер де Во-де-Серне писал свою «Альбигойскую историю», окситанский поэт Гильем из Туделы приступил к сочинению своей «Песни о крестовом походе против альбигойцев», в которой звучит тот же тревожный тон:
Начнем же. Ересь поднялась, как гад со дна морей
(Господь ее да поразит десницею своей!),
Попал весь Альбигойский край в охват ее когтей —
И Каркассон, и Лорагэ. Легли по шири всей —
От стен Безье до стен Бордо — следы ее путей!
К неложно верящим она пристала как репей,
И были там — я не совру — все под ее пятой.
С другой стороны, огромное число местностей, на которые обрушились войска крестоносцев под предводительством их не знающего жалости полководца, Симона де Монфора, наводит на мысль о том, что катары обосновались повсюду к югу от Гаронны: Пьер де Воде-Серне перечисляет около полутора сотен населенных пунктов Окситании, пострадавших во время альбигойского крестового похода. Наиболее значительные из них (в хронологическом порядке) — Безье, Каркассон, Кастр, Памье, Ломбер, Альби, Лиму, Монреаль, Монже, Монферран, Кастельнодари, Каюзак, Нарбонн, Муассак, Кастельсарразен, Отрив, Мюре, Марманд, Родез и, разумеется, Нарбонн и Тулуза, не считая провансальских городов (Бокер, Ним, Монтелимар). Во всех этих городах, где жили и проповедовали совершенные, было множество катаров, и можно предположить, что из-за их внешнего облика, из-за тайны, окружавшей «дома еретиков», а также благодаря своим делам милосердия и проповедям они привлекали внимание и, должно быть, часто пробуждали любопытство у народа, вызывая тем самым недовольство местного духовенства.
До нас не дошло ни одного ни официального, ни тайного документа, в котором речь шла бы о структуре катарской Церкви, кроме уже упоминавшегося «Требника». Однако нам известно из сочинений Пьера де Воде-Серне и Гильома де Пюилорана, что она состояла из двух ступеней: в каждой области был свой катарский епископ, которому помогали «старший сын» и «младший сын». Перед смертью этот епископ передавал свой епископский сан посредством ритуального наложения рук старшему сыну, которого сменял в этом звании младший сын, чьи обязанности перепоручались новому младшему сыну, избранному из числа местных совершенных. Каждый город или другой крупный населенный пункт был поручен заботам диакона, которого назначал епископ и которому помогало более или менее значительное число совершенных, в том числе — необходимо это подчеркнуть — и совершенных женщин: не будем забывать о том, что Окситания была страной трубадуров и куртуазной любви и женщина пользовалась там куда большей моральной независимостью, чем во французском королевстве. В то же время сама природа катарской религиозной системы понятий не сочеталась с обращенной к внешнему миру культурной жизнью, равно как и с золотом, и роскошью католической Церкви; у катаров не было ни обедни, ни вечерни, ни совместной молитвы, ни крестного хода, ни открытых, доступных для всех таинств (крещения, причастия, брака); все у них происходило при закрытых дверях, в тишине и тайне «домов еретиков», как их обыкновенно называли посторонние.
Что касается катарского учения, оно частично опиралось на Евангелия (но отвергало догмат Троицы, сближаясь в этом вопросе с арианской ересью, о которой говорилось выше), а также на учение Апостолов и манихейство богомилов; весьма скромные обряды катаров, связанные с принятием мужчины или женщины в катарскую Церковь в качестве верующих или переход из состояния верующего в состояние совершенного (или совершенной) были подчинены строгим правилам, известным нам из свода молитв и ритуалов посвящения, обычно упоминаемого под названием «Катарского требника».
Вот как в этом «Требнике» описан обряд, предваряющий вступление в катарскую Церковь:
«Если верующий [католик] пребывает в воздержании [в ожидании, пока его примут в ряды катаров] и если христиане [это слово употребляли совершенные для обозначения самих себя, поскольку считали себя единственными истинными последователями Христа, отказывая в этом католикам] согласны дать ему молитву [принять его в свои ряды], пусть они умоют руки, и верующие [катары, не принадлежащие к числу совершенных], если таковые есть среди присутствующих, тоже это сделают. Затем один из совершенных, тот, кто следует за Старейшиной [катарский священнослужитель, принимающий допущенного к посвящению], должен трижды поклониться Старейшине, затем приготовить стол, а затем снова трижды поклониться. Затем он должен произнести: «Benedicite, parcite nobis». Затем верующий должен совершить melioramentum и взять книгу [Евангелие] из рук Старейшины. А Старейшина тогда должен прочесть ему наставление с подобающими случаю свидетельствами [прочесть соответствующие места из Нового Завета].
После Старейшина должен произнести молитву, а верующий повторить ее за ним. Затем Старейшина должен ему сказать: «Мы даем вам эту святую молитву, примите ее от Бога, от нас и от Церкви, теперь вы можете произносить эту молитву во всякий час своей жизни, днем и ночью, в одиночестве или с другими, и никогда не прикасайтесь ни к еде, ни к питью, не сказав этой молитвы. И если вы не сделаете этого, должны будете покаяться». А верующему следует ответить: «Я получаю молитву от Бога, от вас и от Церкви». Затем он должен совершить melioramentumи поблагодарить, после чего христиане [совершенные] дважды сотворят молитву с поклонами и коленопреклонениями, а верующий сотворит ее следом за ними».
После совершения этого обряда катары-неофиты, находившиеся в положении обычных «верующих» в том смысле, который был дан этому понятию выше, продолжали вести обычную жизнь, стараясь жить праведно и честно. Некоторые занимались каким-либо достойным и прибыльным ремеслом, что позволяло им обеспечивать финансовое управление организацией, покупать и содержать «общинные дома» (такие дома существовали почти во всех городах Окситании, где служили одновременно и школами, и больницами, и приютами, и монастырями), и платить за работу простым людям, исполнявшим при них обязанности сторожей, проводников или гонцов. Были и другие — молодые люди, доверенные совершенным родителями, или же обращенные в катарскую веру люди всех возрастов, которые надеялись в один прекрасный день получить consolamentum и в свой черед сделаться совершенными. Тем не менее, за исключением этих воинствующих катаров, большинство верующих в городах или деревнях юга Франции жили так же, как и христиане-католики, довольствуясь тем, что посещали богослужения и почитали «добрых людей», этих суровых, одетых в черное совершенных, которые ходили по всему краю, проповедуя катарское учение.
Главным обрядом, необходимым условием спасения души, был consolamentum, обряд, делавший верующего (или верующую) полноправным членом катарской Церкви — совершенным — отчасти так, как христианское крещение символически вводит новорожденного младенца в римско-католическую Церковь, но с тем существенным различием, что для катара этот обряд был не просто символическим действием: он обладал властью превращать обычного человека, чья душа оставалась пленницей, заточенной в теле, в человека, в котором действительно обитает Дух Святой (откуда и определение обряда как духовного крещения, как его иногда называют). Получившая такое «утешение» душа мужчины или женщины в день его или ее смерти избегала переселения в другое тело и присоединялась на небесах к божественному Духу при условии, что со дня своего крещения обладатель этой души вел святую и добродетельную жизнь, то есть без малейших уступок и без малейших оговорок подчинялся строгим правилам катарской религии. Верующий, получивший consolamentum, благодаря этому делался новым существом, совершенным, и его душа успокаивалась: по смерти тела, в котором она обитала, она будет освобождена и вновь обретет Свет, который утратила при рождении.
И все же, получив обещание вечного блаженства, душа подвергалась большой опасности: после этого духовного крещения самый мелкий грешок совершенного обернется святотатством, и он утратит Святой Дух, который пребывал в нем.
Для того чтобы вернуться в состояние совершенного, надо снова получить consolamentum. Именно по этой причине некоторые верующие ждали, пока не окажутся при смерти, чтобы быть «утешенными»: тогда они могли быть уверены в том, что не утратят в последние мгновения жизни пользы от этого обряда, который, таким образом, соответствовал одновременно католическим таинствам крещения (делающего окрещенного христианином, то есть хранителем Святого Духа) и причастия (возобновляющего этот союз с Богом) с рукоположением (превращающим мирянина в священнослужителя) и соборованием.
Торжественный обряд «духовного крещения» происходил в большом молитвенном зале описанного выше катарского дома, куда верные приходили молиться; в зале были зажжены все белые свечи, они должны были символизировать Свет Святого Духа, сошедший на Апостолов в день Пятидесятницы, после Вознесения Христа на небо. Старейшина дома для начала обращался к верующему, желающему стать членом катарской Церкви, с вступительной речью, напоминая ему о сверхъестественном значении обряда, который должен был вскоре совершиться. «Катарский требник» сохранил для нас содержание этой речи:
«Петр [предполагаемое имя верующего], ты хочешь принять духовное крещение, через которое дается Святой Дух в Церкви Божией, со святой молитвой, с наложением рук добрых людей [совершенных]. Об этом крещении Господь наш Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея своим ученикам: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века». А в Евангелии от Марка Он говорит:
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет». А в Евангелии от Иоанна Он говорит Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». [...] Это святое крещение, через которое дается Святой Дух, Божия Церковь сохранила от времен апостолов до сегодняшнего дня, и оно передается от одних добрых людейдругим добрым людям, и так дошло до нас, и так будет, пока стоит свет; также вам следует знать, что Церкви Божией дана власть связывать и развязывать, прощать грехи и оставлять их. [...] И в Евангелии от Марка Он говорит: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы». А в Евангелии от Луки Он говорит: «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». [...]»
После этого Старейшина рассказывал верующему о догматах катарской религии, о том, какими обязательствами он будет связан до конца своей жизни, и читал Pater Noster, объясняя каждую строку этой молитвы, которую готовящийся к вступлению должен был за ним повторять. Затем верующий торжественно отрекался от католической веры, в которой пребывал с самого детства, обещал, что отныне не прикоснется ни к мясу, ни к яйцам, ни к какой-либо другой пище животного происхождения, будет воздерживаться от плотских утех, никогда не солжет, никогда не произнесет клятвы и никогда не отречется от катарской веры. Затем он должен был произнести такие слова:
«Я получаю эту святую молитву от Бога, от вас и от Церкви», а затем громко и внятно объявить, что хочет принять крещение. После этого он совершал melioramentum (трижды преклонял колени и просил благословения) перед Старейшиной и просил Бога простить ему все, в чем он согрешил мыслью, делом или упущением. Тогда присутствующие при этом добрые люди (совершенные) хором произносили формулу отпущения грехов:
«Именем Господним, нашим и именем Церкви да будут отпущены тебе твои грехи». И, наконец, наступала торжественная минута совершения обряда, который должен был сделать верующего совершенным: Старейшина брал Евангелие и возлагал его на голову нового члена Церкви, а сверху он и его помощники возлагали каждый свою правую руку и молили Бога о том, чтобы на этого человека снизошел Святой Дух, между тем как все собравшиеся вслух читали Pater Noster и другие подобающие случаю катарские молитвы. Затем Старейшина читал семнадцать первых стихов Евангелия от Иоанна, снова произносил, на этот раз один, Pater Noster, и новый совершенный получал от него, а затем от других совершенных поцелуй мира, который он затем передавал тому из собравшихся, кто стоял к нему ближе всех, а тот передавал поцелуй соседу, и так, от одного к другому, этот поцелуй обходил всех собравшихся.
«Утешенный», сделавшийся отныне совершенным, облачался в черную одежду, означавшую его новое состояние, передавал все свое имущество в дар катарской общине и начинал вести бродячую жизнь милосердного проповедника по примеру Иисуса и его апостолов. Городской диакон или катарский епископ провинции должен был выбрать для него среди других совершенных спутника, который именовался socius (илиsocia, если речь шла о женщине), с которым ему, окруженному почитанием и поклонением крестьян, горожан и знати, предстояло отныне делить свою жизнь, свои труды и невзгоды.
Крестовый поход против катаров, так называемый «альбигойский крестовый поход», на самом деле был предлогом, выдуманным Филиппом Августом для того, чтобы захватить земли графа Раймонда VI Тулузского, то есть собственно тулузское графство и относившиеся к нему владения, такие как виконтства Безье и Альби, с единственной целью: расширить территорию французского королевства. Не помешает сказать здесь несколько слов об этом человеке. Он родился в 1156 году и умер в 1222 году в Тулузе, женат был пять раз, его жены — Эрмессинда де Пеле (скончалась в 1176 г.), Беатриса, сестра виконта Безье (на ней он женился до 1193 г.), Бургинда де Аузиньян (свадьба состоялась в 1193 г.)» Жанна, сестра Ричарда Львиное Сердце (она принесла ему в приданое Ажене) и, наконец, в 1211 году он взял в жены Элеонору, сестру арагонского короля.
Раймонд VI, граф Тулузский и Сен-Жиля, герцог Нарбоннский и маркиз Прованса, стал преемником отца, Раймонда V, в 1194 году. Заключенный им выгодный договор положил конец войне, которую последний вел с английскими Плантагенетами (с Генрихом II, затем с его сыном, Ричардом Львиное Сердце), у которых он отобрал Керси. В 1198 году он объединился с шурином, Ричардом Львиное Сердце, и несколькими крупными вассалами против Филиппа Августа; в последующие годы он то и дело вступал в вооруженные конфликты с разными сеньорами юга. Когда же Раймонд VI не был при оружии и не воевал, он держал блестящий двор, куда стекались трубадуры, и проявлял участие к катарам, которые, пользуясь его покровительством, обосновались на его землях. В 1205 или 1206 году граф, напуганный действиями папы Иннокентия III, который уговаривал Филиппа Августа начать крестовый поход против этих еретиков (то есть на его, Раймонда, землях), пообещал папскому легату Пьеру де Кастельно, о котором мы поговорим позже, что не потерпит долее катаров в своих владениях; однако обещания своего он так и не сдержал, и в дальнейшем мы увидим, каким образом миссия Пьера де Кастельно, папского легата, завершится страшным альбигойским крестовым походом.
Эти краткие сведения позволяют нам наметить два следующих обстоятельства, которые, в свою очередь, помогут нам понять смысл этой недостойной религиозной войны: 1) могущество Раймонда VI, графа Тулузского, чьи владения были почти столь же обширны и богаты, что и владения его сюзерена, короля Франции, и то, что он, кроме всего прочего, доводился шурином Ричарду Львиное Сердце (с ним он, как мы уже говорили, объединился против Филиппа Августа, который приходился графу дальней родней), делали его естественным противником короля; 2) свобода его нравов и расположение к катарам, о чем всем было известно, делали графа Раймонда VI и врагом Бога (а стало быть, папы Иннокентия III), что в 1207 году привело к его отлучению от Церкви по решению Пьера де Кастельно, подтвержденному папой в мае следующего года.
Вследствие всего этого граф Раймонд VI как для папы, так и для французского короля был человеком, с которым следовало разделаться. Крестовый поход против катаров предоставил для этого предлог и обоснование преступления, поскольку еретиков было полным-полно как в графстве Тулузском, так и по всей Окситании. Пьер де Во-де-Серне, ожесточенно преследовавший катаров с единственным оружием — крепким гусиным пером в руке, объясняет это нам с нескрываемой пристрастностью, но живо и ярко, а попутно дает и некоторые драгоценные сведения, на которые мы будем обращать внимание читателя по ходу дела:
«Заметим для начала, что он [граф Раймонд VI], можно сказать, с колыбели любил еретиков и благоволил им, тех же, кто жил на его землях, он почитал, как только мог. До нынешнего дня [до 1209 года; убийство папского легата, ставшее поводом для крестового похода, произошло в 1208 году], как рассказывают, повсюду, куда ни отправится, он ведет с собой еретиков, одетых в обычное платье, для того чтобы, если ему придется умереть, он мог бы умереть у них на руках: в самом деле, ему представлялось, что он может быть спасен без всякого покаяния, если на смертном одре сможет принять от них наложение рук. Он всегда носил при себе и Новый Завет для того, чтобы, в случае необходимости, получить от еретиков наложение рук с этой книгой. [...] Граф Тулузский, и это нам доподлинно известно, однажды сказал еретикам, что хотел бы растить своего сына [будущего Раймонда VII] в Тулузе, среди еретиков, чтобы он воспитывался в их вере. Граф Тулузский однажды сказал еретикам, что охотно дал бы сто серебряных монет за то, чтобы обратить в веру еретиков одного из своих рыцарей, которого часто уговаривал перейти в эту веру, заставляя его слушать проповеди. Кроме того, когда еретики присылали ему подарки иди съестные припасы, он принимал все это с живейшей благодарностью и сохранял с величайшей заботой: он не позволял к ним притрагиваться никому, кроме него самого и нескольких его приближенных. И очень часто, как узнали мы с большой достоверностью, он даже поклонялся еретикам, преклоняя колени, и просил у них благословения, и давал им поцелуй мира. [...] Однажды граф находился в церкви, где служили обедню: его сопровождал мим, который, по обычаю шутов такого рода, насмехался над людьми, кривляясь и делая притворные движения. Когда священник повернулся к толпе со словами «Dominus vobiscum», мерзкий граф велел своему гистриону передразнивать священника и насмехаться над ним. В другой раз этот самый граф сказал еще, что предпочел бы походить на некоего опасного еретика из Кастра, в епархии Альби, у которого не было ни рук, ни ног, и жил он в нищете, чем быть королем или императором».
Эти последние слова графа Тулузского, возможно, и верны, но они нисколько не свидетельствуют о «мерзости» Раймонда VI — они скорее служат доказательством того, что этот правитель, каким бы распутником он ни был, способен был восхищаться, а то и завидовал почти мистической чистоте веры совершенных, обреченных взойти на костры, которые ему, может быть, когда-нибудь придется для них зажечь. И в самом деле, катарам не потребовалось и двух веков на то, чтобы в конце концов создать в Окситании, и главным образом в тулузском графстве, Церковь, прочно укоренившуюся во всех его округах и во всех его городах, и Церковь эта не была ни тайной, ни подпольной и находила приверженцев как среди деревенского простонародья, так и среди горожан, и среди членов ее, а также сочувствующих ей, были могущественные бароны и знатные вельможи Лангедока.
Впрочем, катарское учение было не единственной ересью Лангедока. В самом деле, Пьер де Во-де-Серне сообщает нам о существовании христианской секты, зародившейся на юге Франции около 1170 года и начавшейся с проповедей некоего Пьера Вальдо, богатого лионского купца, отказавшегося от всего нажитого ради того, чтобы призывать к возвращению к изначальной этике Евангелия; его последователей называли вальденсами, образуя это название от имени основателя секты.
«Эти люди, несомненно, были дурными, — пишет он, — но если сравнить их с катарскими еретиками, они были куда менее испорченными. В самом деле, во многих вопросах они были с нами согласны, а в других расходились. Их заблуждение относилось главным образом к четырем положениям: они должны были, подобно апостолам, носить сандалии, говорили, что ни в каком случае нельзя ни давать клятвы, ни убивать, и утверждали, что любой из них может, в случае необходимости и при условии, что носит сандалии, совершать таинство евхаристии, даже если этот человек не был священнослужителем и не был рукоположен епископом».
Вальденсы подвергались гонениям со стороны Рима, в 1487 году против них был начат крестовый поход, но им удалось уцелеть и найти приют в альпийских деревнях Пьемонта, Савойи и Люберона. Когда их снова начали преследовать в XVII веке (при Людовике XIV), они примкнули к кальвинистской реформированной Церкви. Уточним, что вальденсы не имели никакого отношения к катарам: в частности, они никогда не поддерживали никаких манихейских теорий.